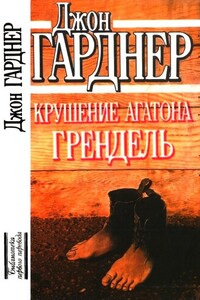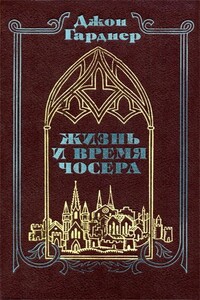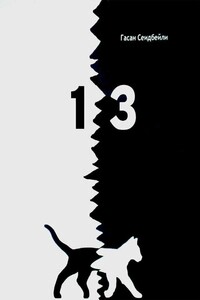— Флинт умер! — крикнул я, взмахивая руками. В них — ни малейших признаков жизни.
Позади меня в каюте раздался жуткий полусмех, полуплач, и я побежал к Миранде.
XXVIII
Приближается конец, признаюсь в этом, мой честный читатель. Неистощимый запас трюков истощился — почти. Доктор Флинт из простого технического приспособления — из куклы чревовещателя! — стал горячим выразителем всякой преступной, всякой псевдохудожественной мысли. Его смерть, хотя и небеспрецедентна в мировой литературе, у любого негодяя попроще может вызвать корчи зависти. А что до Миранды… но этот бант еще не завязан. Она сидит и задумчиво разглядывает старого морехода. У нее даже мелькает мысль взяться за дело самой: может быть, даже она и возьмется. Знаем мы таких. И ангел тогда ее поддержит (а что такое поддержка ангела, затрудняюсь сказать). Гость — тоже.
Но я не для того прервал этот поток измышлений, чтобы просто потолковать про сюжет. Помещение, в котором мы сидим, довольно странное, мой читатель: то ли это дом, то ли дуплистый древесный ствол, то ли цирковой балаган — но тебе, я надеюсь, здесь нравится: размалевано, однако же достаточно уютно. Не думай, во всяком случае, что это очередная циничная шутка с моей стороны, последний дурной трюк из исчерпанного арсенала дешевых эффектов. Поверь моему слову. Скульптор, ударившийся в живопись, о котором я упоминал, существует на самом деле, это настоящий художник, и у него есть настоящее имя, я мог бы его назвать. И все, что я о нем рассказал, — правда. И ты существуешь на самом деле, читатель, так же как и я, Джон Гарднер, человек, который с помощью мистера Мелвилла, и мистера По, и еще многих написал эту книгу. И сама эта книга, она тоже — не детская игрушка, хотя я и пишу более обычного одолеваемый сомнениями. Это не игрушка, а странный неуклюжий монумент, как бы коллаж, апофеоз всей литературы и жизни, ландшафтная скульптура, надгробный склеп.
Гость смотрит недоуменно. Ангел — неодобрительно.
— Валяй, рассказывай дальше, Джонни! — восклицает старый мореход и, вытянув шею, ударяет себя по коленке.
— Нет, ты сам рассказывай дальше, — говорю я. — Я просто подумал, что лучше им объяснить.
XXIX
Он говорит:
— Ну так вот, сэр.
Миранда лежала ничком на койке и не хотела поворачиваться и разговаривать. Она слышала, что я вошел, но даже не потрудилась натянуть на себя одеяло. Так и лежала полуголая, в изорванном платье, и кожа ее была вся в пятнах и разводах, точно мрамор, а между зелено-фиолетовыми синяками извивались толстые бледные вены.
— Миранда, — сказал я, — теперь выслушай меня.
Я взял ее за плечо, но она вырвалась с быстротой молнии, перевернулась на бок, приподнялась на локте, не обращая внимания на расстегнутое, разорванное спереди платье, и посмотрела на меня одним глазом, как Одиссеев Циклоп. Лицо ее распухло еще сильнее прежнего; в нем не осталось и следа былой красоты. Улыбка была презрительная — хитрая и надменная. Я покачал головой, и Миранда притворно захохотала — мне послышался смех Уилкинса, громкий и злобный. И сразу же лицо ее приняло отвратительно кокетливое выражение. Охнув от боли, такой же мучительной, как моя, она откинула одеяло. Кровь на ее теле засохла коростой, и короста уже отваливалась. Я встал, отведя взгляд.
— Миранда, послушай, — решительно повторил я.
— Я отдалась тебе, — горячо прервала она меня. — Я писала для тебя любовные стихи, позорила себя… видит святое небо, как я тебя любила, Джонатан! Но даже тогда я была для тебя ничто. А уж теперь…
— Помолчи и слушай, — сказал я. Любовные стихи, как бы не так! И все-таки нельзя же не поверить ей, хоть немного, хоть в чем-то. Я обернулся к ней, меня больше не пугало, что она до сих пор даже не подумала прикрыть свой стыд, что она упивалась своим падением, гордилась позором, как раньше — вымышленным превосходством. Ох, гордыня, гордыня! Нет тебе предела.
— Я буду заботиться о тебе, Миранда. Но только, раз у тебя такие преступные наклонности, ты должна полностью отказаться от всякого своеволия и беспрекословно мне подчиняться. Не то я закую тебя в кандалы, вот посмотришь.