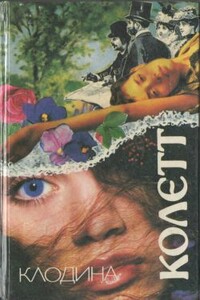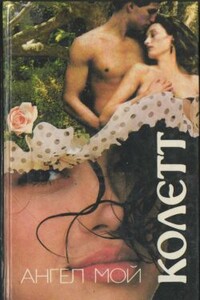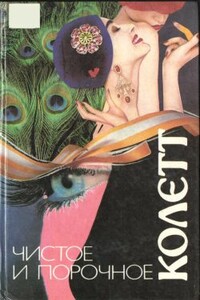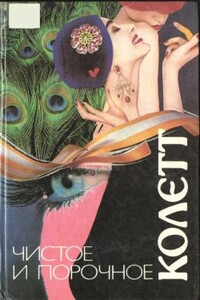Запахнувшись в просторный белый халат с золотыми кистями на поясе, она наслаждается, ещё не пресытившись восхитительным уединением, наступающим каждое утро после ухода мужа.
До полудня она будет одна – и можно будет гладко зачесать ставшие блестящими от расчёсывания гребнем волосы, что сделает её похожей на маленькую японочку; одна – чтобы долго смотреть в небо, угадывая, какая сегодня погода, и проверять указательным пальчиком, чисто ли выметены углы; одна – чтобы водрузить на шляпку вычурное украшение, которое рассыплется под её дыханием и опадёт на пол, словно колоски в поле; одна – чтобы грезить, писать, радоваться пьянящему одиночеству, которое всегда было для Минны лучшим советчиком.
Именно в такое зимнее утро, ясное и звучное, как сегодня, она побежала к Дилигенти, никому не известному итальянскому композитору. Она нашла его за пианино – настороженного, польщённого, нерешительного… Он был недоволен, что она потревожила его в такой час, и в наказание овладел ею, принеся Минне одно лишь разочарование…
Но сегодня Минна ощущает в себе душу благоразумной хозяйки дома. Вчерашняя её неудача – четвёртая по счёту – требует осмысления, и она в самом деле пытается это осмыслить, сидя перед пустой чашкой.
«Надо принимать меры. Положительно, это необходимо. Но я ещё не знаю, что делать. Однако так продолжаться не может. Я не могу переходить из постели в постель, ублажая этих господ с их „штучками“, а взамен получая лишь ломоту во всём теле и испорченную причёску, не говоря уже о ботинках – холодных, а порой и мокрых, так что неприятно их надевать… И на что я похожа? Ирен Шолье говорит, что нужно беречь себя, если не хочешь выглядеть на пятьдесят лет; она уверяет, что если вскрикивать „Ах! Ах!“, сжимать кулаки и притворяться, будто тебе не хватает дыхания, то им этого вполне достаточно. Возможно, им, мужчинам, этого достаточно, но мне – нет!»
Горькие размышления Минны прерывает пневматическая почта.
«Это от Жака. Уже!..»
«Дорогая Минна, невыразимо любимая Минна, Минна моих снов и грёз, я жду тебя сегодня у нас. Не могу объяснить тебе, моя изумительная маленькая королева, что именно внесла ты в мою жизнь, но со вчерашнего дня я знаю, знаю с абсолютной точностью, что если мне не дано будет видеть тебя столько, сколько я захочу, то всё рухнет. Не смейся надо мной, Минна, я готов покорно признать, что не ожидал ничего подобного. Может быть, ты – это любовь? Или душевное наваждение? Одно бесспорно, я не могу назвать тебя счастьем, Минна, дорогая…
Жак.»
Она с мстительным тщанием разрывает на мелкие кусочки белый листок.
«А его я могу назвать своим счастьем? Какой эгоизм! Он говорит только о себе. Нет, этот совсем молоденький мальчик не станет для меня убежищем, и не ему смогу я открыться, чтобы молить: „Излечите меня! Дайте мне то, чего я лишена, о чём так униженно прошу, что должно поднять меня до уровня всех прочих женщин!..“ Все женщины, которых я знаю, рассказывают об этом, едва остаются одни, пачкая словами и взглядами своими любовь… И все книги также! В некоторых это даже так недвусмысленно! Да хотя бы во вчерашней…»
Она открывает томик, ещё влажный от свежей типографской краски, и перечитывает:
«В их объятии соединились пароксизм страсти и высшее успокоение. Алида с рычанием вонзила ногти в плечо мужчины, и их пылающие взоры скрестились, словно два кинжала, закалённых огнём сладострастия. В последнем конвульсивном усилии он ощутил, как сила его перетекает в неё, тогда как она, зажмурившись, возносилась к неведомым вершинам, где сливаются в одно грёзы и чувства…»
«Разве возможны здесь какие-то недомолвки? Всё совершенно ясно! – заключает Минна, захлопнув книгу. – Я порой спрашиваю себя, на что потратил Антуан годы холостяцкой жизни, если он остался таким… таким невежественным!»
Обычно Минна мало думает об Антуане. Бывает, что она о нём просто забывает; бывает также, что встречает его с радостью, как если бы он по-прежнему оставался кузеном и товарищем по играм. Но сегодня, когда он возвращается голодный, пахнущий лаком и палисандровым деревом, его счастливая болтовня утыкается, будто в стену, на молчание Минны, на этот маленький рот с поджатыми губами, на эти нахмуренные брови…