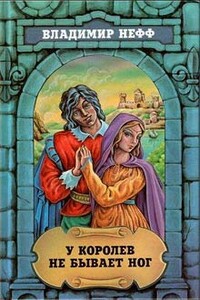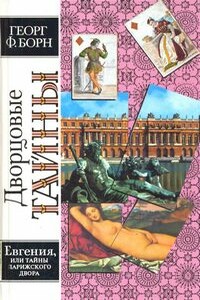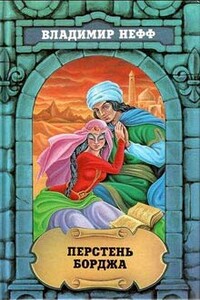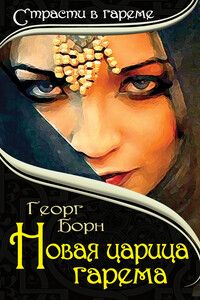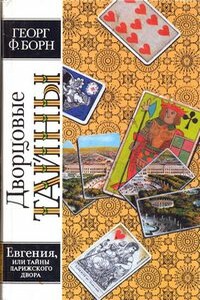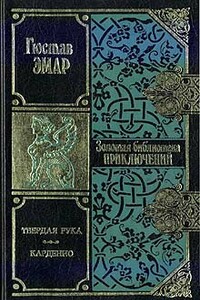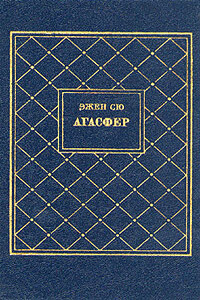В своем последнем предсмертном признании лейтенант д'Азимон, как мы помним, сказал, что его убийцей был вовсе не Марсель, а жестокий и мстительный Рошель. Вдобавок в процессе следствия выяснилось, что орудие убийства – кинжал – принадлежал прежде одному каторжнику, а от него перешел к Рошелю. Марсель же был вовсе безоружен.
Рошель был схвачен и брошен в карцер. Всеобщее возмущение, охватившее не только тюремщиков, но и каторжников, не предвещало ничего хорошего. Рошеля могли просто растерзать. Тем более что он упорствовал в своих показаниях и вовсе не думал раскаиваться.
– Попробуйте доказать, что это я убил лейтенанта! – выкрикивал он. – Он оговорил меня в смертельном бреду. Разве не могло быть такого? А кинжал… Кто укажет, что он был у меня в руках?!
Рошель продолжал неистовствовать и в последующие дни. Он то запирался, то кричал в порыве откровенности:
– Я должен был отомстить этому лейтенанту! Я ненавидел его. Собаке – собачья смерть! Что вы все хотите от меня? Я плюю на вас. Этот ненавистный лейтенант мертв, и я теперь удовлетворен…
Но на допросе в присутствии коменданта он опять принялся все отрицать.
– Отстаньте, наконец, от меня. Я ничего не знаю и ничего не скажу. Даже под пыткой, если хотите знать. Не боюсь я ничего.
Тюремщики кипели от негодования, но не могли остановить этот поток злобных излияний. Даже обычно выдержанный Миренон насилу сдерживался. С этим Рошелем, как видно, дошедшим до остервенения, ничего нельзя было поделать. Миренон был убежден, что и пытка ни к чему не приведет.
Впрочем, в признании Рошеля, строго говоря, не было нужды. Преступление было настолько очевидным, что оставалось только вынести формальный приговор.
В тот день, когда Фернанда и Адриенна готовились к побегу, в Баньо заседал суд. Рошеля судили офицеры и тюремные надзиратели. Они единодушно приговорили его к смертной казни.
Когда надзиратель принес ему обед, Рошель выкрикнул ему в лицо:
– Ну, что? Осмелились эти тюремные крысы произнести свой приговор?! Я ничего не боюсь и ничего доброго от них не жду. Будь что будет.
– Тебя повесят – завтра утром, – объявил надзиратель. – Молись, чтобы Господь отпустил тебе твои грехи.
– Как же, стану я молиться! Грехов на мне больше, чем блох, и сам Бог Саваоф мне их не отпустит. Я сделал то, что сделал, и вполне удовлетворен.
Когда тюремщик ушел, тщательно заперев дверь, Рошель засмеялся ему вслед.
«Эти наивные люди думают, что я приготовил шею для их намыленной веревки, – сказал он себе. – Черта с два! Не дождутся и напрасно построят виселицу… Похоже, непогода готова разгуляться. Самое время для побега».
Он подошел к окну и отворил его. Оно не было зарешечено, должно быть, потому, что располагалось слишком высоко над землей. Тот, кто рискнул бы спрыгнуть вниз, непременно переломал бы себе руки и ноги. К тому же внизу дежурили стражники, и беглец даже в случае удачи обязательно попал бы к ним прямо в руки.
– На всякий случай я приготовлю себе веревку, – бормотал он, разрезая осколком стекла на полосы одеяло. – Веревка должна получиться крепкая. Она меня выдержит.
Он дождался наступления темноты и прихода надзирателя с последним ужином. Стоило тюремщику выйти, как Рошель бросился к окну и растворил его. Ветер выл и стонал, заглушая все остальные звуки. С моря доносилась пушечная канонада – это бесновался прибой. Дождь то утихал, то принимался лить снова.
– Самое подходящее времечко, – буркнул Рошель.
Он привязал конец импровизированной веревки к ножке кровати, осторожно выглянул наружу и, уверившись, что кромешная тьма надежно укроет его от глаз стражников, стал осторожно спускаться вниз, лихорадочно вцепившись в веревку.
Бесновавшийся ветер норовил прежде времени сбросить его на землю, но Рошель благополучно спустился вниз. Ему здесь все было хорошо знакомо, и он тотчас выбрал верное направление.