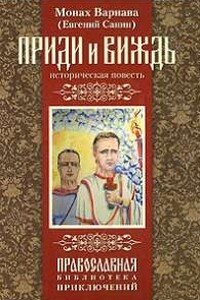На улице показались сторожа и караульные стрельцы. Древками алебард они разогнали псов, и на улице всё притихло. Андрей растолкал Румянцева и вышел в трапезную. Жена, ворча, накормила их.
Как и обещал Андрей, Грибоедов отписал грамоту лично нижегородскому воеводе, и Иван Румянцев отбыл из Москвы ещё до полудня, накупив подарков домой. Андрей же отправился к Григорию Ромодановскому. Старый воевода выслушал его и, посмеявшись, сказал, что усё ему блазнитси и он сам себя убеждает в том, чего быть не может. Вернувшись раздосадованный домой, Андрей Алмазов так и не написал письмо Матвееву.
Крепкий мороз хватал за уши и щёки, сковывал движения, а возле колодцев образовался ледяной наст. Деревья трещали, кора на них трескалась. Большая часть горожан сидела по домам, выжидая хоть небольшого послабления морозов.
По Ордынке в сопровождении малой охраны, не более десятка рынд и полусотни стременных стрельцов, двигалась царская карета, поставленная на полозья. Фёдор Алексеевич, осмотрев некоторых из предлагаемых невест, в том числе Фёклу Милославскую и Евдокию Куракину, остался ими недоволен, лишь сильными уговорами боярина Языкова решился съездить в дом Апраксиных глянуть на пятнадцатилетнюю Марфиньку[164], дочь окольничего Матвея Апраксина.
Карета ехала медленно, чтобы не беспокоить ноги государя. Терем Апраксина только отстроился после пожара, и отделка внутри ещё продолжалась. Царя не ждали, и его появление вызвало суматоху. Сам окольничий Матвей Васильевич Апраксин выскочил на мороз в одной рубахе, до земли кланяясь царю, за ним спешили жена, сыновья и дочь Марфинька. Полный переполох. Фёдор Алексеевич, улыбаясь, прошёл в терем, искоса посмотрел на Марфиньку. Почти ребёнок, пятнадцать лет, маленькая, как воробушек, носик остренький, глазки бусинки. Уж Агаша не была высокой, а эта и вовсе в пояс дышит.
— Аки отстроился посля пожару, Матвей Васильевич? — перекусив хлеб соль в дому, спросил царь.
— Да вроде жить можно.
Царь расспросил ещё кое о чём Апраксиных и вскорости уехал, озадачив хозяина. А вечером пожаловал Языков.
— Иван Максимович? — удивился Апраксин новому приходу. — Никак што важное?
— Важное, Матвей Васильевич, идём в дом, — скинув шубу, предложил Языков.
В светлице, едва присев на лавку, Языков сказал торжественно:
— Ну, свояк, я к тебе с вестью радостной. Великий государь Фёдор Алексеевич просит твою дочь в жёны.
— Марфиньку? — побледнев, пролепетал Матвей Васильевич.
— Ну а кого же? У тебя, чай, одна дочка.
Апраксин закатил глаза, схватился за сердце, задышал часто, потом, глубоко вздохнув, вымолвил:
— Ну, Иван Максимович, эдак и убити можно.
— Ну, прости, Василии. Я ж по-родственному. Так што я должон государю передати? Ты согласный?
— Ты ещё спрашиваешь? Да такое счастье не всякому выпадает.
— Подожди, Василии, ести одно но. Надо и Марфиньку спросити. Государь велел только по её согласию.
— Раз велел, спросим. Эй, холопы, хто тама ести, — вскочив, бросился Апраксин к двери. — Позовите ко мене Марфиньку.
Марфинька явилась улыбчивая, по-детски счастливая.
— Здравствуйте, дядя Иван Максимович, — приветствовала поклоном Языкова.
— Здравствуй, солнышко, здравствуй, — отвечал Языков, невольно расплываясь в улыбке. — Расцвела, Марфинька, расцвела, аки маков цвет. Невеста уже.
Апраксин поднялся.
— Марфинька, доча, — заговорил Матвей Васильевич. — Ты токо не пужайся, милая.
— Што случилось, батюшка?
— Ничаво, ничаво плохого, — заспешил сразу Апраксин. — Наоборот, радость великая. Государь тебя сватает в жёны.
— Меня? А разве мени уже можно? — вытаращила глаза девочка.
— Энто як посмотрети, а так в самый раз. Токо государь не велит тебя неволити, приказал спросити, согласна ли ты?
— А як ты, батюшка?
— Я-то, я-то? Да ты што, доча? Дочка царицей станет, якой отец не согласитси.
— Ну, значит, и я согласная.
— Вота и умница. — Апраксин поцеловал дочку в лоб, затем, благословляя, перекрестил. — Станешь царицею, все перед тобой клонитьси станут, всяко твоё слово исполняти, во всём тебе угождать.
— А я смогу тогда свово крестного боярина Артамона Сергеевича Матвеева воротить?