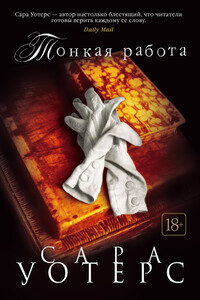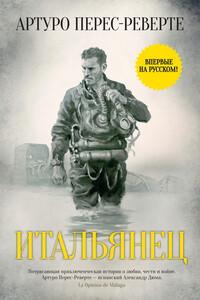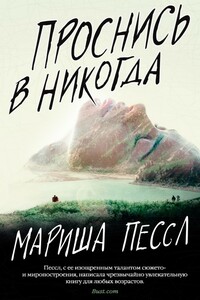Как все на меня уставились…
Стыдно признаться, но на этом воспоминания мои обрываются (см. рис. 12, «Континентальный шельф в разрезе», в кн. «Рельеф океанического дна», Босс, 1977). Помню только обрывки реплик («А если ее родные на нас в суд подадут?») и лица, глядящие на меня сверху, словно я смотрю на них из колодца.
Впрочем, провал в памяти мне восполнили с лихвой. В ближайшее воскресенье за обедом у Ханны очевидцы рассказали все подробности, называя меня милыми прозвищами – Рвотинка, Тошнюсик, Плевака и Оливки. Если верить Луле, я вырубилась прямо на газоне. Джейд уверяла, будто бы я что-то бормотала по-испански, вроде «El perro que no camina, no encuentra hueso», то есть: «Собака, которая не ходит, косточку не находит», после чего глаза у меня закатились и Джейд подумала, что я умерла. Мильтон клялся, что я «бегала в голом виде», а Найджел – что я «отжигала, как Томми Ли на презентации альбома „Театр боли“»[184]. Чарльз, выслушав все эти версии, поморщился и объявил, что они «грубо искажают действительность». Сказал, я всего лишь полезла обниматься с Джейд, в точности повторив его любимый фильм – культовый шедевр французского режиссера-фетишиста Люка-Шало де ла Нюи «Les Salopes Vampires et Lesbiennes de Cherbourg»[185] (киностудия «Пти-Уазо», 1971).
– Парни всю жизнь мечтают такое увидеть. В общем, спасибо тебе, Рвотинка. Спасибо тебе громадное!
– Я смотрю, вы повеселились от души. – Ханна улыбалась, а глаза у нее блестели, словно она как следует хлебнула вина. – Больше ничего не рассказывайте! Это не для учительских ушей.
Я так и не смогла решить, которому рассказу верить.
С тех пор как у меня появилось прозвище, все переменилось.
Папа говорил, что моя мама, которая «когда входила в комнату, все почтительно замирали, не дыша», со всеми обращалась одинаково. Папа не мог определить, с кем она говорит по телефону – с подругой детства из Нью-Йорка или с рекламщиком, так она радовалась им обоим. «Поверьте, я была бы счастлива заказать средство для чистки ковров – продукция у вас просто замечательная, – но, должна признаться, у нас нет ковра».
– Она могла извиняться часами, – рассказывал папа.
А я ее подвела. Я стала держаться по-другому – теперь, когда подружилась с воскресной компанией, когда Мильтон, заметив меня на утреннем сборе, орал: «Рвотинка!» – и полный двор школьников готов был рухнуть к моим ногам. Конечно, я не превратилась в одночасье в наглую актрисульку, которая начинала с массовки, а потом когтями и зубами прорвалась к главным ролям. Но, расхаживая на перемене по коридорам Ганновера с Джейд Уайтстоун («Фу, устала!» – жаловалась Джейд, обнимая меня за шею, как Джин Келли обнимает фонарный столб в фильме «Поющие под дождем»[186]), я, безусловно, купалась в лучах славы. Тогда-то я по-настоящему поняла, о чем говорил Хэммонд Браун, участник прогремевшего в 1928 году бродвейского мюзикла «Счастливые улицы» (известный в ревущие двадцатые под прозвищем Челюсть). Он сказал: «Взгляды толпы касаются кожи, как шелк» («Овация», 1952, стр. 269).
А после школы меня забирал папа, и если он за что-нибудь меня ругал – за волосы «как новогодняя мишура» или за слишком дерзкое сочинение «Тупак[187]. Портрет современного поэта-романтика», за которое мне поставили издевательскую четверку («Выпускной класс – не время ни с того ни с сего ударяться в эпатаж!»), – происходило нечто очень странное. Раньше после каждой ссоры с папой я запиралась у себя в комнате, чувствуя себя какой-то кляксой, расплывчатой и размазанной. А теперь я по-прежнему видела свои очертания: тонкий, но вполне отчетливый контур.
Миз Гершон, учительница углубленной физики, тоже заметила перемену – по крайней мере, на подсознательном уровне. Например, когда я только поступила в «Сент-Голуэй», когда я поднимала руку, чтобы ответить на вопрос, миз Гершон меня замечала далеко не сразу: я сливалась с окружающей средой, с окнами, лабораторными столами, с портретом Джеймса Джоуля. А сейчас, едва я подниму руку, взгляд учительницы мгновенно обращался ко мне:
– Да, Синь?
То же самое с мистером Арчером – он больше не перевирал мое имя. «Синь», – говорил он без малейших колебаний, с глубокой и искренней верой (примерно тем же тоном он произносил «да Винчи»). А мистер Моутс, подходя взглянуть, как продвигается мой рисунок, смотрел больше не на мольберт, а на меня – словно я более интересный объект, чем кривоватые линии на листе бумаги.