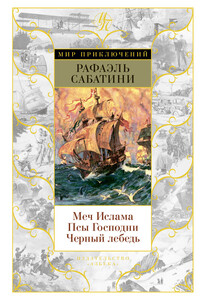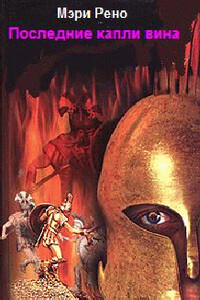Так они рассуждали, полагая, что положение вещей осталось таким же, как и во времена древности, не желая видеть, что события совершаются людьми, а люди переменились.
В Македонии Филипп загорел и окреп, он мог провести в седле полдня, потом – целый день; на огромном поле у озера Пеллы неустанно упражнялась, совершенствуя тактику, конница. Теперь было две царские илы: Филиппа и Александра. Отца и сына часто видели едущими вместе, увлеченными беседой; золотая голова склонялась к черной кудлатой. Служанки царицы казались побледневшими и обеспокоенными; одна из девушек несколько дней не вставала с постели, оправляясь от побоев.
В разгар лета, когда пшеница поднялась и зазеленела, снова собрался Дельфийский Совет. Коттиф доложил, что амфиссийцы продолжают сопротивляться, осужденные вожди не изгнаны, его собственная, наскоро собранная армия не в состоянии привести их к повиновению. Коттиф предложил Совету призвать царя Филиппа, который однажды уже укротил богохульников-фокейцев и теперь сможет возглавить священную войну.
Антипатр, бывший послом, поднялся. Он облечен властью высказать согласие царя. Более того, Филипп, в знак благочестия, берет на себя все издержки. Изъявления благодарности и тщательно проработанные условия договора были записаны и вырезаны на плите местным мастером; он заканчивал свою работу примерно в то же время, когда гонец Антипатра, которого на протяжении всего пути ждали свежие лошади, прибыл в Пеллу.
Александр играл с друзьями в третьего лишнего во дворе. Пришла его очередь, стоя в центре круга, ловить мяч. Он как раз поймал его, на четыре фута подпрыгнув вверх, когда Гарпал, обреченный следить за игрой, не принимая в ней участия, поковылял к нему. Во дворец из Дельф прибыл нарочный, молва уже разнеслась. Александр, сгорая от нетерпения поскорее увидеть письмо открытым, сам принес его царю, принимавшему ванну.
Филипп стоял в широком бронзовом тазу, покрытом орнаментом, распаривая больную ногу. Слуга натирал ее едко пахнущей мазью. Покрытое сплетением рубцов и шрамов тело царя ссохлось, одна ключица, сломанная много лет назад, когда под Филиппом убили лошадь, выпирала толстой мозолью. Он был похож на старое кряжистое дерево, о которое год за годом трется рогами скот. Инстинктивно, не отдавая себе в этом отчета, Александр отмечал, каким оружием нанесена каждая рана. «Что за шрамы останутся на мне в его возрасте?»
– Распечатай сам, – сказал Филипп. – У меня руки мокрые.
Филипп закрыл глаз, чтобы не видеть дурных новостей. В этом не было необходимости.
Когда Александр вернулся назад во двор, его друзья плескались в фонтане, обливая друг друга водой, чтобы смыть грязь и остыть. Увидев его лицо, молодые, гладко выбритые мужчины застыли, замерев в движении, как скульптурная группа Скопаса[58].
– Свершилось! – сказал Александр. – Мы идем на юг.
У подножия расписной лестницы, облокотясь на копье, стоял страж. Это был Кефис, коренастый седобородый ветеран, подбирающийся к своим шестидесяти годам. С тех пор как царь перестал приходить к Олимпиаде, охранять ее покой считалось неподобающим для молодых воинов.
Юноша в черном плаще помедлил в тени коридора, разглядывая пестрый мозаичный пол. Он еще никогда не был в комнате матери так поздно.
При звуке его шагов Кефис поднял свой щит и угрожающе выставил вперед копье. Александр вышел на свет. Он прошел мимо стража и поднялся по ступенькам. Поскребся в дверь, но ответа не последовало. Тогда, вытащив кинжал, Александр громко постучал по дереву его тяжелой рукоятью. Внутри раздался сонный шорох, потом послышалось чье-то дыхание.
– Это Александр, – сказал он. – Открой.
Моргающая взъерошенная служанка в наспех накинутом платье высунула голову в приоткрытую дверь; за ее спиной шелестели приглушенные голоса. Сначала женщины, наверное, подумали, что пришел царь.
– Госпожа спит. Уже поздно, Александр, далеко за полночь.
– Впустите его, – произнес голос матери.
Олимпиада стояла у постели, затягивая пояс своей ночной рубашки, сшитой из шерсти цвета сливок и отороченной темным мехом. Он едва видел ее в мерцающем свете ночника; девушка, неуклюжая со сна, пыталась зажечь от него фитили высокой лампы. Очаг был чисто выметен; стояло лето.