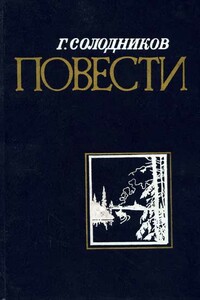короткими волосами, весёлая, белозубая. Когда они приезжали к нам, всё в доме
менялось, они стихи друг другу читали, и одежда у них была другой, и пахли они
по-другому. Но, главное, из всех взрослых только они всерьёз разговаривали со
мной, и я видел, что им со мной интересно. Дядю Павлика посадили в Тавде на
Урале. Директор школы стал предлагать что-то неприличное Аде, дядя Павлик дал
ему пощёчину, а у директора оказался друг начальник НКВД, и всё. Потом и тех
пересажали. Кому стало легче, кому прибавилось счастья? Разве что самому
Троцкому, поскольку у него вдруг обнаружилось так много соратников по всей
стране.
Если я расскажу про всё, меня выгонят из школы, а школа для
меня самый светлый дом. Я готов там проводить весь день – с утра до поздней ночи.
Я там учился в самом подлинном смысле и не понимал тех, для кого школа была
обузой, – несчастные, как они дальше будут жить во мраке невежества. А мне
интересно знать как можно больше и получать «отлично». С одной стороны, я остро
ощущал своё плебейство, а с другой видел своё превосходство. Однажды, когда
отец привёз на телеге очередную шабашку, я, воспитывая себя, сказал, что он уже
сидел в тюрьме, но не исправился. Отец сразу вспылил, в руке у него был кнут, и он
стеганул меня вдоль спины. Ведь мы строим дом не тёте Моте, а себе, в землянке
ютимся, на глиняном полу спим, оконце с тетрадку величиной. Я всё понимаю, но
как мне дальше жить, если в школе я честный, а дома воровство покрываю?
Учительница не только меня в пример ставила, но и мою маму, она не пропустила
ни одного родительского собрания, больше ей никуда не требовалось ходить, ни в
одно учреждение. В школу она собиралась, как в церковь, доставала из сундука
единственную роскошь – цветастую шаль, чёрную с красным, подарок свекрови, и
шествовала по Атбашинской как на фольклорный праздник. Мария Петровна
Завьялова на собрании говорила: вот вам Анна Митрофановна, у неё сын круглый
отличник, хотя сама малограмотная женщина, царский режим не позволил ей
получить образование.
Я не оправдал ожиданий своих учителей, не произвёл
переворота даже в семье, не говоря уже обо всём земном шаре. До каких пор мы
будем жить в темноте и невежестве? Даже зубной щётки нет. В нашем большом
городе есть заводы и фабрики, институты и техникумы, разные культурные
заведения, но мы продолжаем жить как в деревне. Лошадь, корова, навоз, кизяк – до
каких пор? Крестьянская царская Россия давно ушла в прошлое, прогремела по
стране коллективизация, индустриализация, строят Магнитку, роют каналы, летают
через Северный полюс в Америку, а мы колупаемся в навозе, как сто лет назад, как
тысячу лет назад. Родители меня не понимали. Вместо того, чтобы убедить меня по
системе Макаренко, отец сразу взрывался: ты должен радоваться, что у нас есть
скотина, она кормит нас, а ты, такой-сякой, видишь в этом позор. Мама тоже
доказывала – не было бы у нас коровы, сынок, мы бы давно с голоду поумирали,
вспомни, как мы бедствовали, когда отец в тюрьме сидел, а ты в первый класс
пошёл. Мы не бедствовали, мы наливали в миску молоко, крошили туда хлеба,
садились вокруг и черпали ложкой. А чем тебе лошадь мешает, если у отца нет
другой профессии, только возить, грузить, разгружать. В твои годы мы уже землю
пахали, сено косили, хлеб растили, а за скотиной ухаживали с пяти лет. Я тоже
выносил навоз широкой лопатой из-под лошади, из-под коровы и всё это добро
складывал в кучу на краю огорода, летом будем делать главное топливо – кизяк.
Каждое утро, пока отец завтракал, я запрягал лошадь в телегу, как это делали
сыновья в девятнадцатом веке, в пятнадцатом и до нашей эры. Я научился запрягать
лошадь быстрее, чем запрягал отец, но он меня не хвалил, обязательно придирался,
то чересседельник слабо натянул, то супонь не так завязал.
Я терпел, пока не появилась Лиля. Я не хочу, чтобы она