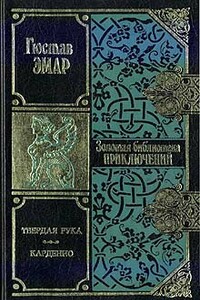Невестка загремела печной заслонкой, а сын присел не к столу, а на скамью у двери, неуклюже стараясь показаться независимым.
Ферапонт усмехнулся:
— Благодарствуйте, поужинал.
Он церемонно раскланялся, отыскивая повод, чтобы объяснить свой приход.
— Я ведь по делу к тебе, Петро. Дело-то наше, сам понимать должен, семейное… К матери-то съездишь? Проведал бы, посмотрел, как там она.
— Так не к чужим отвез, — начал было сын, но жена перебила:
— Некогда ему ездить по гостям, со своими делами не управляемся!
Она была бы миловидной и приятной, если бы не злой блеск глубоко посаженных черных глаз и излишняя худоба, причину которой люди почему-то находят в характере…
— А мать что, на последний план?
Но невестка осадила:
— Сам бы взял, да и съездил, коли такой заботливый!
— Съездил, если б мог…
Ферапонт Александрович старался говорить степенно и спокойно, но именно это более всего и заставляло невестку бросать колкости:
— Ах, скажите вы мне! И что это за дела у тебя такие неотложные?!
— Идите вы все… — досадливо махнул рукой Ферапонт и вышел из дома.
Сын удерживать отца не стал. Однако у ворот догнал.
— Ты бы, батя, уехал… — проговорил он, глядя в сторону, — на время… Я сегодня и сам хотел зайти к тебе, предупредить…
— О чем?
— Убить тебя хотят! — огорошил сын, облизнув пересохшие губы.
— А ты, часом, белены не объелся? — насмешливо спросил Маякин, чтобы не показать испуг.
— Ей-богу, — забожился Петр. — Человек один встретил меня. Передай, говорит, отцу что жить ему осталось на одну затяжку. Ваня, мол, Трифоновский, дюже свидеться с ним хочет. Сегодня в ночь и прибудет.
— Куда же ехать-то?
Маякину хотелось присесть, чтобы не слышать противной дрожи в ногах. Он ненавидел сейчас себя за свой страх, но ничего не мог с собой поделать.
— Я тебе тут, батя, не советчик… Сам понимаешь… — жевал слова сын, жалея отца и опасаясь жены.
Ферапонт не стал его дослушивать, побрел, по тропинке вдоль домов.
«Чуяло мое сердце, ох, чуяло… Правильно, ох, как правильно насмехался надо мной Бирючков, мы, мол, воюем, а ты на завалинке сидишь… Вот и досиделся», — думал Маякин, и так и эдак прикидывая, что делать.
Возле своего дома остановился, увидев мужиков.
«Так и есть: убивцы!» — холодел он, но погибать не за понюшку табака не собирался.
Заметили и его. Замахали руками. У Ферапонта отлегло от сердца: «Кажись, свои». Подойдя к собравшимся, увидел и односельчанина Никиту Сергеева. Бирючков не забыл разговор с Маякиным, вызвал Никиту с торфоразработок и дал новое поручение: вернуться в родную деревню, чтобы помочь активизировать деятельность волостного Совета.
— А вы горланили, будто бы убег наш председатель, — укоризненно посмотрел на мужиков Сергеев. — Мы к тебе, Александрыч.
Они не пошли в дом — для пятнадцати человек он был слишком тесен, — а уселись на бревнах во дворе. Вечерело. Розовый шар солнца перекатил за соломенные крыши изб.
— Тут вот какое дело, — вновь начал Никита Сергеев. — Толки бродят по дворам, будто бы бандиты нонешней ночью хотят опять нас проведать. Вот давайте скопом и покумекаем, как быть с этими мазуриками…
В деревне я недавно. Отвык от земли-то, к станку больше тянет. Но кто меня обездолил, мужики? Почему я в город подался, от насиженных мест ушел? Кулак деревенский, купец, фабрикант, помещик, заводчик, поп и монах — вот кто свет скрыл от нас. Если голод томил — пулей свинцовой кормили, казацкой нагайкой.
А поп обещал нам рай на небесах, себе же и богатым — рай на земле сделали.
— Ты, Никита, че, политике нас сюды собрал учить? — сказал Аверьян, низкорослый мужичок. На семь ртов он один был работник. Скотины — никакой, а из имущества — расползающаяся от ветхости изба с дырявой крышей. За малый рост в округе его прозвали Клепнем.
Земли у него было с ладонь. Сажал на ней под лопату картошку, которую съедали до крещенских морозов. О деньгах и речи не могло быть.
Сергеев внимательно посмотрел на него:
— Ты, Аверьян, вроде бы мужик-то неглупый, а от политики, как черт от ладана шарахаешься. Негоже это. Вспомни, как жил раньше.
— А пошто вспоминать, — упавшим голосом ответил Аверьян. — У кого толстый карман был, тот кутил и наряжался. У кого дырявая мошна была, тот в лохмотьях да обносках по улицам шатался.