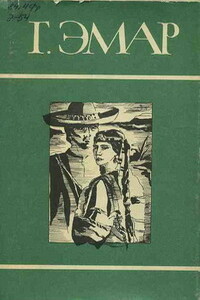— Хм, н-да, — смешался Карп Данилыч, не зная, что сказать. — Ну слыхала и слыхала, что с того. Мало ли об чем муж с женой по утрам толкуют. Вот сама выйдешь замуж, — попробовал он свести дело к шутке. — Ну будет тебе, будет… Пойдем в избу. Чаю попьем, пораскинем умом — все пойдет чередом.
Чай пили втроем: Еремей Фокич еще не вернулся из церкви. Карп Данилыч прихлебывал шумно и зло, Глафира Ивановна — с молчаливой обидой, Тося — боязливыми маленькими глотками.
Потом Митрюшины пошли в церковь, а Тося — к Мише. Он спал спокойным сном выздоравливающего. Она опустилась на стул, по-старушечьи сложив руки на коленях.
Миша проснулся, открыл глаза.
— Ты что, так всю ночь и просидела здесь? — удивился он. — Боялась, украдут? — Миша улыбнулся и потянулся к Тосе рукой.
Она отодвинулась.
— Ты не думай, я отступлюсь. Как только окрепнешь — отступлюсь… Ничего не надо!
— Что не надо?
— Ничего не надо! — Тося вскочила, но он остановил, больно схватив за руку.
— Сядь!
Она покорилась, не зная, что ждать от него в следующую минуту.
— Где моя одежда?
— Ты что удумал? — испугано спросила Тося.
— Ничего. Просто мы сейчас убежим отсюда. И убежим туда, где тебя никто не обидит.
Миша и Тося сидели у остывающего самовара, когда Карп Данилыч и Еремей Фокич вернулись из церкви.
— Ай да Миша, ай да молодец! — Ктитор заторопился к шкафу. — По случаю счастливого выздоровления не грех и по лампадке, а, Карп Данилыч?
— Оно, конечно, греха в том нет. К тому ж и потолкуем. По-семейному, — добавил Карп Данилыч.
Тося вспыхнула и хотела выйти из-за стола, но Миша удержал. А Еремей Фокич повернулся к Митрюшину-младшему.
— Если поправился — уходи куда поукромнее. Ищут тебя.
— Понятно, — усмехнулся Миша. — Ну а ежели я желаю встречи, что тогда?
— Не впутывали бы вы меня. Вам что: молодо-бедово, а я господу-богу служу, к встрече с ним поманеньку готовлюсь.
— Готовься, дед, готовься, только прежде скажи, где Яшка?
— Ты лучше у Вани Трифоновского спроси, с ним твой дружок бывший ушел.
— Ты что, дед? Как это он может быть у Ваньки?! По своей воле?!
— Э-э, внучок, — закашлял смехом Еремей Фокич, — кто ж нынче по своей воле живет! Царь-батюшка и тот черной силе поддался, а уж про нас, червей безголовых, комаров болотных, и говорить нечего.
— Ну вот, Таисья, — сказал Миша, — дорога теперь нам ясна. — Встал и объявил: — Уезжаем мы. Отгостевались. Благодарствуйте за привет и ласку, — и шутливо поклонился деду Еремею.
— Слаб поди, — глухо произнес Карп Данилыч. — Поокреп бы малость.
— Окрепну. Только не здесь.
Карп Данилыч нахмурился, но ктитор перебил:
— Ежели надумал уезжать, уезжай, не задерживайся, а то гляди, возьмут тебя здесь, тогда не только тебе, другим не поздоровится.
Глаза Карпа Данилыча и ктитора встретились.
— Слышь-ка, Таисья, и ты, Еремей Фокич, — сказал Карп Данилыч, — вышли бы вы пока, потолковать мне с Михаилом надо.
Митрюшкин проводил их взглядом, повернулся к сыну. Тот стоял перед ним такой же невысокий и крепкий, с такими же, отцовскими, упрямыми глазами. Карпу Данилычу хотелось сейчас сказать о своих тревогах и заботах, обидах и надеждах, и он тяжело, будто пудовые гири, складывал в уме слова.
— Опять к этому… к этому каторжанину! Опять позор… на отцову голову позор!
— А куда прикажешь деться? За мной теперь, как за волком, — тихо и грустно сказал Миша.
— Ах, Мишка, ах ты дурачок, я же все для тебя, кому ж оставлю! Я тебе и братов с сестрами не завел, чтобы не сцепились из-за денег… Ну зачем тебе этот душегуб? У меня много чего есть — все тебе, все для тебя!
— Да не из-за денег я, не из-за денег! Скушно мне, муторно! Успокоения душе не нахожу. Потому и в лавке твоей стоять не могу и по делам твоим ездить.
— Чего ж ты хочешь? — растерялся Карп Данилыч.
— Знать бы… — Миша отвернулся.
— Моя вина, — вздохнул Митрюшин. — В том вина, что в бога малую веру тебе внушил. Оттого и маета, оттого и злобствуешь.
— Бог тут ни при чем. Видал я и таких, кто в бога верует шибко, а человека им загубить, что Муху раздавить.
— Цыть! — опять нахмурился Карп Данилыч. — Не тебе об том судить. Да и не время. А люди… оно что… оно, конечно, всяк свой разум имеет, у всякого своя корысть, а в душу не заглянешь. — И, покосившись на сына, закончил: — Взять хотя бы Таисью.