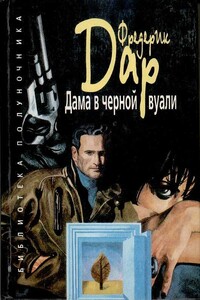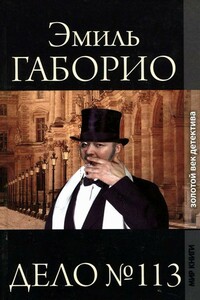Я прилагаю все усилия, чтобы уладить религиозный конфликт. Нам приходится довольствоваться стаканом молока тигрицы. Берю негодует. Он говорит, что плевать хотел на этот самолет, что путешествие слишком затянулось и что он схватил насморк. Я поднимаю его дух рассказами о стране Восходящего Солнца. Гейши, рисовая водка! От моего допинга он начинает светиться. Мы взлетаем.
Со своего места я украдкой наблюдаю за тремя подозреваемыми. Все они реагируют совершенна по-разному. Первый, найдя записку, читает ее и подзывает стюардессу, чтобы та объяснила, что это значит. Второй, развернув записку, показывает её попутчице так, как будто не понимает по-французски и хочет, чтобы ему перевели Наконец, третий, прочитав записон, с невозмутимым видом бросает его в пепельницу.
Мне кажется, что ваш Сан-А пролетел, как фанера над Парижем. В конце концов, на что я рассчитывал? У этих азиатов — потрясающая империя над своими чувствами (империя Хиро-Хито или Шито-Крыто).
Итак, мы находимся на высоте шесть тысяч метров со спящим Берю в домашних тапочках и кучей проблем, которые нужно решить до посадки в Токио.
Что делать, когда мы прилетим в Японию? Я в полной растерянности, друзья! Представьте, что вы, пьяным в зюзю, решаетесь отправиться в путешествие, а затем, очухавшись с похмелья, не понимаете, на кой ляд вы отчудили это.
Время тянется медленно. Летать самолетами весьма приятно, но порой не хватает разнообразия. Я расслабляюсь. Думаю о своей бедняжке Фелиси, которая снова не знает, где ее сын. Правда, я ее предупредил, что могу задержаться, но тем не менее! Моя старушка наверное, ждала меня всю ночь напролет. Вот уж кто должен иметь надежный мотор, не боящийся ночных перегрузок!
Так как я незаметно задремал, меня будит легкое оживление рядом с туалетами. Стюардессы проносятся к пилотской кабине. Появляется командир корабля. Я смекаю, что здесь пахнет жареным и поднимаюсь, чтобы ознакомиться с обстановкой на месте. С первого взгляда я понимаю, что тревога мисс Шафран была ненапрасной. Дверь туалета заперта изнутри, а из-под нее в проход вытекает ручеек крови. Командир Лохоямопадмото дергает ручку и зовет по-японски того, кто за дверью. Но ему никто не отвечает. Тогда он обращается по-английски, по-немецки, по-норвежски, по-конголезски (экс-колониальный бельгийский вариант), по-ацтекски, по-боливийски, по-перуански, по-фински, по-болгарски, по-русски, по-украински, по-китайски, по-корейски, на канадском английском, на канадском французском, на романском швейцарском, по-испански, по-спаниэльски, по-сеттер-ирландски, по-бордельски, по-з-заикайски, по-глухоненецки и при помощи азбуки Морзе. В ответ — тишина…
Думаю, что теперь — слово за делом. Я прошу командира посторониться, и одним ударом плеча вышибаю хлипкий замок тонкой дверцы.
Перед нашими взорами открывается потрясающая картина.
Третий пассажир, тот самый, который бросил записку в пепельницу, сидит на крышке унитаза. Его руки продолжают сжимать рукоятку японского кинжала, который он мужественно загнал в свой бункер. Вокруг рукоятки обмотан белый платок, уже ставший красным от крови. Парень беспардонно мертв. Желтолицые стюардессы зеленеют, как будто их погрузили в метиленовую синь. Командир Лохоюмападмото выглядит чрезвычайно взволнованным. Впрочем, есть с чего! Он отдает на японском распоряжения своим крошкам и переводит на меня недовольный взгляд.
— Я — журналист, — говорю я — Из агентства «Франс-Пресс» в Токио. Он кивает головой. — Харакири, — констатирует он.
— Вижу.
Другие пассажиры ничего не успели увидеть.
— Послушайте, — говорю я, — не стоит создавать нервозную обстановку на борту. Что, если мы завернем покойника в одеяло и перенесем его в багажный отсек?
Этим предложением я проливаю бальзам на его рану. Физиономия командира немного просветляется.
— Вы очень любезны, месье.
— Рад помочь вам.
Раздается грохот. Это Толстяк, спеша навстречу новостям, наступил на свои подтяжки и растянулся в полный рост.
— Что здесь за бардак? — интересуется он. Командир поворачивается к нему и скупо информирует:
— Харакири.