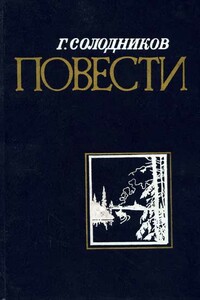— Давай закурим, дедушка. Махорка у меня моршанская — вырви глаз.
Мы закурили. Старик с удовольствием затянулся, глаза его счастливо заблестели.
— Чувствуется, — только и произнес он.
— В больницу бы тебе надо сходить, — посоветовал я. — А то, может, какой вредный у тебя кашель.
— Ульи вот сделаю — медок пойдет. Его, медок-то, с молоком горячим как потянешь да на печь — всю простуду распарит. Раз так было — в момент мою болезнь смело.
— До медка не скоро еще, — сказал я.
— И не долго, — старик показал в обочину, где трепетали белые лепестки ясколки. — Теперь попрет. Без немца окаянного все воздохнуло.
Старик шел рядом со мной, прихрамывая на правую ногу.
— Интересуюсь очень, — обратился он ко мне. — В теплых тех странах война или мирное там житье?
— Всюду беспокойство, — ответил я.
Старик, задумавшись, прошел до перемостка, под которым шумел ручей.
— Да… Каждый год летал он ко мне. Это я про скворца. А теперь, выходит, ему через все позиции надо лететь. И местность-то, признай-ка, пожгли да порушили.
Вот и изба председателя. Окна ее были заколочены, железо на крыше погнулось от взрывной волны. Труба свалилась. Груда расколовшихся кирпичей краснела возле завалинки среди ярко зеленевшей травы.
Вошли в избу. Здесь было сумрачно. Лишь в углу вздрагивал оранжевый язычок коптилки. Я вгляделся. В углу на кровати лежала молодая женщина, разбросав поверх стеганого одеяла белые руки. Глаза ее были закрыты.
— Наташа, крестница моя, — прошептал старик и перекрестился на моргавший огонек коптилки.
Наташа, заслышав шепот, раскрыла глаза, измученные болью, и вдруг лицо ее осветилось улыбкой. Да ненадолго: тихонько застонав, отвернулась к стене.
— Шли бы вы, милые, на волю, — сказала нам женщина, которая за Наташей присматривала.
Мы было пошли во двор, но тут в сенцах послышались шаги. Дверь растворилась, и в хату вошел мужчина в шинели, от которой запахло сырым весенним ветром. На голове — фуражка с красной лептой, какие носили партизаны.
Он прошел к кровати и склонился над Наташей. Она что-то шепнула ему. Мужчина обернулся, пристально посмотрел на меня. Я сказал, что послан разминировать сад. Он протянул мне руку — назвался Рябининым.
— Давненько ждем вас, — сказал он, — земля голодает без ваших рук, прямо так и сказать можно.
Когда мы вышли из хаты, солнце уже поднялось над лесом. Мне было даже жарко в шинели и в шапке. Шапку я снял. Голову освежило ветром. До чего же синее небо, плывут высоко-высоко прозрачно-белые облака, глазам больно, как посмотришь в ту даль.
— Очень на Алексея вы похожи, — заговорил Рябинин, поправляя висящую на груди забинтованную руку. — Вхожу в хату, а Наташа шепчет: «Глянь, вылитый Алеша наш…» Сын это мой, Алешка-то.
Рябинин нагнулся, выкрутил из бревна обгоревший гвоздь, хотел сунуть в карман, поглядел на сбитую шляпку — швырнул его.
— Быть бы моему Алешке сейчас на фронте. А не пришлось, — снова заговорил Рябинин. — Сильно заболел он в тот момент, как эта войнища началась. Воспаление легких. Положили мы его в избе, лыками загородили. Стал он поправляться маленько. Водицы все ключевой просил. Принесли. Попил да и говорит: «Ну а теперь и в лес можно идти». Хотел встать, а никак — ослаб, бледный сам, худой.
В деревне у нас тем временем гестаповец остановился с охраной. Гуляет, пьет — задурел совсем от всякой сытости. Вот раз девчонка одна пропала — Зоя Назарова. Потом и другая за ней — Катя Иванова. Молоденькие совсем были девчатки, можно сказать, первой весны. Искали мы их, искали — нет. Может, ушли куда, может, в лесу запропастились — как хочешь гадай. А потом случаем на ямы набрели — лен там когда-то мочили. В этих-то ямах и лежали они мертвые. Ради минуты удовольствия для себя две девичьи жизни загубил тот самый гнус.
Вот я и скажи Алексею: «За Наташей гляди». Любовь это была его. Ничего не сказал он мне. На сеновал ушел. А как стемнело совсем — сентябрь, черно стало, — полушубок, смотрю, надевает и вон из хаты. К ней, думаю, к Наташе пошел. Возвратился ночью, как раз петухи кричали. Спичку зажег — посмотрел на рукав. Слышу я, заплескал водой — отмывает что-то.