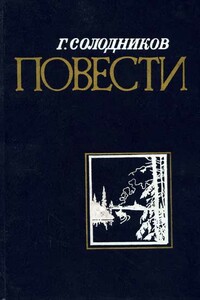Оказался я опять в отряде. У своих, а настоящей радости нет. Гложет душу тоска.
Сообщили мне: погибла Даша с сыночком. Вызывает меня командир.
«Ну что, — говорит, — Федор, ныть будем или врага бить?»
«Врага бить», — отвечаю.
Сколько потом было походов, засад — всех не перечтешь! Рвали мосты, эшелоны под откос пускали. Я больше по разведке, врага выслеживал. Себя не жалел, ну и фашистам доставалось; по совести скажу, спуску не давал. Ожесточилось у меня сердце.
Косорезов отбросил окурок и взял другую папироску.
— К концу запас, — кивнул он на пачку и продолжал: — Два года, считай, так-то бились. Настало время — наши пришли. Солдат я родных увидел. В погонах. Мы, конечно, всем отрядом в армию. И мне погоны выдали. Старшего лейтенанта присвоили. Разведротой поставили командовать. Ударили мы. Не то что в сорок первом. Дошел я до самого Берлина. Капитаном стал. Расписался на рейхстаге и в июне сорок шестого в деревню возвратился.
Приехал я на свою станцию днем. Тепло, синева над полями. Жаворонки заливаются — дрожит где-то высоко звук.
Иду по дороге, захмелел от этого раздолья. То медом пахнет с лугов, то лесной гарью. Васильки в зеленой ржи светятся, и что-то звенит и звенит в ней.
Прошагал я скорым все пятнадцать верст. А перед самой деревней ноги как онемели. Куда спешу? Кто меня ждет? Резануло затупелое горе. Сел я на пень за березками. Гомон и звон от деревни. Голосенки ребячьи различаю, и кажется мне, что сынка своего слышу.
Долго я так просидел, надеждой себя тешил. На дороге телега застучала… Едет кто-то. Гляжу, женщина. Не наша, незнакомая. И так тоскливо мне стало. Побрел я за телегой. Вот и улица наша, и соседние хаты, а моего дома нету. Мелькают под крапивой белые вьюнки. По бугру бурьян, рыжий, колючий, от ветра словно бы дышит. Боюсь идти дальше, горя своего боюсь. К реке свернул, вижу, мальчонка стоит, рыбу удит. Сел я сзади него.
«Чей ты?» — спрашиваю.
«Косорезов», — отвечает.
Подскочил я к нему.
«Сынок, — говорю, — Сашенька!»
Упал я в траву как подкошенный. И тискаю его, и целую, а все в глазах мутно, и мокро на щеках. Всю войну горе свое держал, а тут от радости не стерпел.
Смотрит он на меня, глаза как у матери. Рассказали мне в деревне, как Даша погибла. Упала, Сашеньку своим телом прикрыла. Схоронили ее, а сына люди добрые приютили.
Нет Даши, а кажется, что рядом она, со мной. Во сне приходит, ласково так тронет меня. Раскрою скорей глаза и на секунду лицо ее увижу.
…Косорезов замолчал и долго смотрел на реку, где метался свет месяца на широко и сильно светящейся воде.
— Вот и живем вдвоем с сыном, — продолжал он раздумчиво.
Он смял в руках окурок и отбросил его щелчком в темноту.
— Так воевали за родную землю. — Косорезов стал искать зажигалку. — Закурим?
1959 г.
Мы слезли с попутной машины и пошли по белой степи в полк, но, видно, сбились с дороги.
Снег уже подсинился от сумерек, а мы все шли.
— Может, нам в другую сторону? — засомневался я. Шуршали крупинки по насту, намерзшему после вчерашней оттепели. Стало мглисто и холодно.
Впереди что-то зачернело. Подошли — омет, сопревший, заметенный снегом. Вокруг торчали пучки соломы, валялись головешки да пустые консервные банки. Тут, видно, до нас останавливались.
Я сел в солому. Майор, закуривая, повернулся к ветру спиной. Но как только закурил, цигарка брызнула искрами и рассыпалась.
— Чертова погодка! — выругался майор и хмуро взглянул на меня. Потом сунул руки в рукава шинели и тоже присел у омета. Тут было теплее и тише. От соломы чем-то далеким пахнуло — жарким жнивьем.
— Как бы не заснуть, а то замерзнем, — не то подумал, не то сказал я уже сквозь дрему.
Очнулся от сильного толчка в плечо. Раскрыл глаза — темно. Надо мной стоял майор.
— Идем! Вон там огонь светит! — крикнул он.
Я с трудом поднялся и увидел далеко в степи огонек. Кто зажег его, откуда он здесь, на черных пепелищах войны?
Майор бросился вперед и сразу пропал в темноте. Я пошел по следам и через минуту наткнулся на него.
— Ты видишь огонь?
— Нет.
— Неужели померещилось?
Но вот снова сверкнул похожий на искру огонек и снова погас.