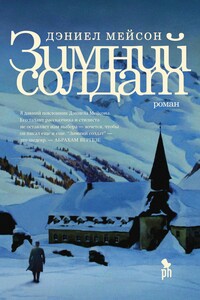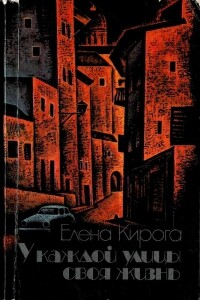У Эдгара была привычка во время работы тихонько напевать себе под нос. Кэтрин часто досадовала на то, что, когда он работает, он полностью увлечен процессом настройки. «Ты способен видеть что-нибудь, когда работаешь?» — спрашивала она вскоре после того, как они поженились, наклоняясь к нему сбоку через фортепиано. «Видеть что?» — спрашивал он вместо ответа. «Ну ты же понимаешь что-нибудь: фортепиано, струны, меня?» — «Конечно, я вижу тебя», — он брал ее за руку и целовал. «Эдгар, пожалуйста! Пожалуйста, я спрашиваю, как ты работаешь? Я серьезно. Ты видишь что-нибудь во время работы?» — «Как же я могу не видеть?» — «Мне просто кажется, что ты пропадаешь, уходишь куда-то в иной мир, может быть, в мир звуков». Эдгар смеялся: «Какой же странный это должен быть мир, дорогая». И он тянулся к ней и снова целовал ее. Но на самом деле он понимал, о чем она пыталась спросить его. Он работал с открытыми глазами, но, когда заканчивал, вспоминая прошедший день, никогда не мог вспомнить ни единого зрительного образа. Он помнил только то, что слышал, — пейзаж, нарисованный тоном и тембром, интервалами, вибрациями: «Вот мои цвета».
И теперь, пока он работал, он почти не думал о доме, о Кэтрин, об отсутствующем докторе или Кхин Мио. Не замечал он и того, что у него появились наблюдатели — трое мальчишек, подглядывающих за ним сквозь щели в бамбуковых стенах. Они перешептывались и хихикали. И не будь Эдгар затерян в пифагоровом лабиринте тонов и механизма, и если бы он понимал шанское наречие, то услышал бы, как они предполагали, что он, должно быть, великий музыкант, если умеет чинить их поющего слона. «Какие все-таки странные существа эти британцы», — могли бы сказать они своим товарищам. Их музыканты играют в одиночестве, и под эти странные медленные мелодии нельзя ни петь, ни танцевать. Но спустя час даже новизна шпионских ощущений исчезла и мальчишки со скучающим видом направились к реке купаться.
День тянулся своим чередом. Вскоре после полудня Нок Лек принес Эдгару обед — большую миску рисовых колобков, плавающих в жирном бульоне, который, как пояснил юноша, был сварен из каких-то бобов. Бульон был сдобрен порубленным мясом и перцем. Еще он принес банку с пастой из жареной рисовой шелухи, которой Эдгар намазал нижнюю сторону резонансной деки, прежде чем прервался для того, чтобы поесть. Съев несколько ложек, он вернулся к работе.
Вскоре на небе собрались облака, но дождь не начался. В помещении стало влажно. Он всегда работал не спеша, но сейчас его самого удивляла собственная осмотрительность. К нему снова вернулись мысли, которые преследовали его, когда он только приступил к работе с этим инструментом. Для того чтобы закончить настройку, ему требовался какой-то час-другой, после чего он перестанет быть нужным здесь. Ему придется вернуться в Мандалай, а потом — в Англию. «Но я же хочу этого, — говорил он себе, — это ведь означает, что я снова буду дома». Но чем дольше он работал, тем больше отъезд становился неотвратим. Он обдирал пальцы о струны, монотонность действий усыпляла: поворот, клавиша, звук... Как поэт заполняет гармоничными созвучиями лист бумаги, так Эдгар приводил в согласие все части этого инструмента.
Эдгару осталось всего три клавиши. В этот момент солнце прорвало облака, засияло через окно, озарив комнату. На ночь он поставил крышку рояля на место и снова снял ее, когда вернулся. Теперь ему снова было видно отражение пейзажа в полированном красном дереве. Он стоял и смотрел, как Салуин течет через блестящий квадрат на крышке. Потом подошел к окну и посмотрел на настоящую реку.
«Через две недели рояль нужно будет снова подстроить», — сказал он доктору. Не сказал он ему только, что теперь, когда он произвел основную настройку, регулировку и настройку тона, поддерживать инструмент в настроенном состоянии будет относительно несложно, и он может научить этому самого доктора или даже кого-то из его шанских помощников. Можно было сказать ему это, подумал он, и оставить ему молоточек для настройки, это было бы правильно. А потом подумал: «Я так долго не был дома. Может быть, слишком долго». Он мог бы сказать это доктору, и обязательно скажет, потом. Но сейчас он напомнил себе, что слишком торопиться тоже нельзя.