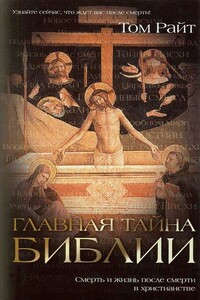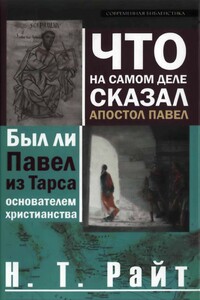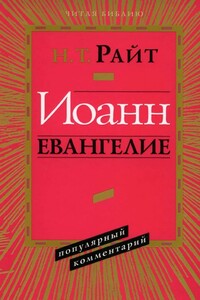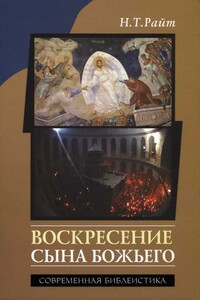И они заговорили об этом вовсе не в III или IV веках, после долгого периода богословских размышлений и исканий, в тот момент, когда социальные или политические условия сделали подобные формулировки востребованными. Об этом заговорило уже первое поколение христиан. Причем они понимали, что говорят вещи, которые возмущают религиозные чувства как иудеев, так и язычников. Более того, они говорили об этом, понимая, что бросают прямой вызов политическим амбициям Рима. В конце концов, именно кесаря считали «сыном Бога», его прославляли как «господа мира», его царство было всемогущим и перед его именем должно было преклониться всякое колено. И потому когда христиане утверждали, что в Иисусе небо встретилось с землею, что он заменил собой Храм и что он есть воплощение живого Бога, это было не только неслыханным богословским новшеством, но и самой откровенной провокацией в социальной сфере.
Они это утверждали, несмотря ни на что. А при этом они вспоминали жизнь и слова Иисуса и находили там намеки, указывающие на то, что и сам он это понимал.
И здесь снова христиане нередко делают неверный ход. Они утверждают, что Иисус во время своей жизни «знал» о своей «божественности» в каком–то особом смысле, так что это знание, не покидавшее его ни на миг, делает его мучения в Гефсиманском саду совершенно непонятными. В другой книге я доказываю, что это не совсем так, иначе мы не воздаем должного полноте воплощения и не видим его глубинного измерения. Я считаю, что Иисус понимал свое призвание стать тем, кем, согласно Писаниям, может быть только Бог Израилев, и посвятить этому свою жизнь. Именно в таком смысле мы можем говорить, что Иисус истинно божественный, оставаясь в подлинном смысле этого слова человеком, — и чтобы это лучше понять, нам снова надо вспомнить, что люди были созданы по образу Божьему, а потому это не путаница в категориях, но окончательное осуществление замысла о творении.
Вот почему, когда Иисус в последний раз пришел в Иерусалим, он рассказывал притчи о царе (или господине), который уехал в дальнюю страну, а затем вернулся посмотреть, что делают его подданные или слуги. Здесь Иисус говорил о самом YHWH, который покинул Израиль во времена изгнания, а затем вернулся сюда, чтобы судить и спасать. Но хотя Иисус говорит о YHWH, входящем в Иерусалим, сюда пришел сам Иисус. Он въехал в город на осле, он показал, что вправе распоряжаться Храмом, и сказал первосвященнику, что воссядет одесную Силы, он отдал свою плоть и кровь за грехи мира. Чем ближе мы находимся к кресту, тем яснее для нас становится ответ на вопрос: как Иисус понимал сам себя?
Он должен был знать, что это безумный замысел. Иисус был достаточно трезвым для того, чтобы задать себе вопрос: не бред ли все это? Однако — и это самый таинственный момент в его истории — он черпал уверенность не только в Писании, которое ясно говорило о его предназначении, но также и в доверчивой молитве к тому, кого он называл Аввой, Отцом. Удивительным образом Иисус одновременно и молился Отцу, и принял на себя ту задачу, которую, согласно древним пророчествам, мог исполнить только YHWH, — задачу избавления Израиля и всего мира. Он был совершенно послушен Отцу, а одновременно делал то, что мог делать только Бог.
Как мы должны это понимать? Я не думаю, что Иисус «знал о своей божественности» в том же смысле, в каком мы знаем, что нам холодно или жарко, что мы счастливы или грустны, что мы принадлежим к мужчинам или женщинам. Скорее это похоже на «знание» о своем призвании, когда кто–то знает в глубине своего существа, что он призван стать художником, или инженером, или философом. Похоже, Иисус обладал глубинным знанием именно такого рода, пламенным и всепоглощающим убеждением в том, что Бог Израилев куда таинственней, чем думает большинство людей, и что внутри бытия этого Бога есть обмен, взаимоотношения, в которых отдают и получают любовь. Вероятно, Иисус верил в то, что он, пророк из Назарета, человек в полном смысле этого слова, был участником в этом обмене любви. И что из послушания Отцу он призван осуществить замысел об этой любви, которая свободно и целиком отдает себя.