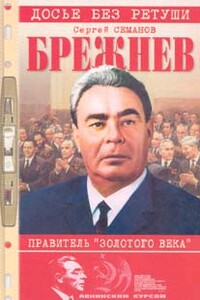Какой из них органичнее, сказать трудно. Россия — это и бунт, и порыв, непрерывный протест против сколько-нибудь устоявшихся форм; но Россия — это и титанический труд созидания, это подвиг соединения противоречий (культурных, этнических, социальных и даже географических) в некоем высшем, с великим трудом достижимом единстве. Можно сказать, что Россия — попытка приблизиться к идеалу России, попытка, которой сама же Россия мешает своим неуемным стремлением возвратить в лоно хаоса то, что было у хаоса отвоевано в титанически трудной борьбе.
Отражением этих спорящих, противоречивых начал русской жизни стала литература. Первым писателем-бунтарем я назвал бы Радищева, автора “Путешествия из Петербурга в Москву”, — того, кого в школьных учебниках советских лет именовали первым писателем революционно-демократического направления. Это уж после него, знаменитого русского диссидента восемнадцатого столетия, явились и бунтари-декабристы, и ими “разбуженный” Герцен, и поднялась та волна революционной агитации, которая вынесла в русскую жизнь Чернышевского и Добролюбова, петрашевцев и народовольцев.
Поддержал деструктивные русские силы и Гоголь. Как писал Розанов, произведения Гоголя “замутили” русскую жизнь; а “Шинель”, из которой, как всем известно, “вышла” позднейшая русская литература, — это же повесть о бунтаре, о “чиновнике, крадущем шинели” (как сам автор и обозначил её центральный конфликт). Недаром Гоголь так мучился в конце жизни, недаром считал себя величайшим грешником — ибо он чувствовал, как “любострастен и воспалителен”, как ядовит был тот чарующий, дивный напиток, которым поил он Россию.
Таких титанов, как Толстой и Достоевский, мы не будем, пожалуй, включать в нашу условную схему. Эти писатели так самобытно-сложны и так противоречивы, что могут стоять как в одном, так и в другом ряду — разрушая при этом любую конструкцию. Толстой эпохи “Войны и мира” — конечно же, созидатель, государственник и патриот; Толстой же времен “Воскресения” — страстный бунтарь, обличитель и разрушитель социума.
Так же и сочинения Достоевского, будоражащие впечатлительные русские умы и сердца, подбросили немало дров в русский революционный костер — хотя общественная позиция самого Федора Михайловича была консервативной и почти совпадала с триадой Уварова “православие, самодержавие, народность”.
В ряды бунтарей встает поздний Блок, с его “слушайте революцию!” и с его Христом, возглавляющим пьяных матросов, апостолов бунта.
Следом идет Маяковский, официально признанный талантливейшим поэтом революционной эпохи. “Довольно жить законом, данным Адамом и Евой!” и “Ваше слово, товарищ маузер!” — эти лозунги “Левого марша” лучше всех рассуждений выражают бунтарскую суть Маяковского.
Ряд “деструктивных” имен можно продолжить — правда, фигуры, стоящие в нем, будут мельчать и мельчать: может быть, вместе с медленным затуханием революционной волны в обескровленно-изнуренной России.
Назову сразу имя, замыкающее на данный момент двухвековую “разрушительную” колонну, прошедшую в русской литературе. Это, конечно же, Бродский, певец распада. Поэзия позднего Бродского — это свалка фрагментов потерявшего целостность мира, это “апофеоз частиц”, по его же собственному выражению. Причем трудно сказать, в какой мере поэт лишь отражает объективно происходящий процесс нагнетания мировой энтропии, а в какой он потворствует хаосу.
Перейдем теперь к вехам иного пути. Ряд творцов-созидателей, ряд художников, не разрывающих, а укрепляющих ветхую ткань бытия, мы начнем с Пушкина. И не забудем, что Пушкин, как бы опровергая радищевское “Путешествие из Петербурга в Москву” — книгу, которая и открыла разрушительно-диссидентское направление русской литературы, — Пушкин пишет свое “Путешествие из Москвы в Петербург”, где спорит с Радищевым, вразумляет читателя и словно бы направляет русскую литературу и жизнь в другую — буквально противоположную! — сторону. Пушкин был гением созидания, укрепления форм языка и уклада, был человеком, благословляющим жизнь. Он говорил миру: “Да!” — он был в истинном смысле творцом, то есть соратником Бога.