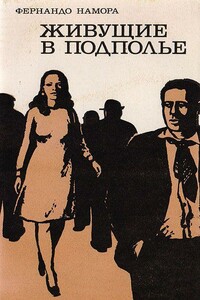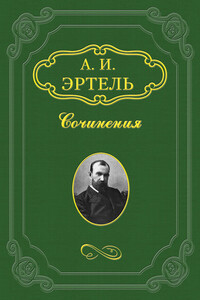Надев спецовку и тулуп, я вошел в галерею. Мне говорили, что ничего нет более предательского, чем глинистые слои, приходящиеся на кровлю, здесь жди самого худшего. Почва не предупреждает — она обрушивается внезапно.
Я шел по рельсам, и рождавшееся от стука моих резиновых сапог эхо сжималось в бездонном и черном конце галереи. Заключенные в футляры лампочки, убегая вперед, искали мою тень. Огромная, зловещая, она то опережала меня, то отставала, когда я вступал в новую полосу света. Когда ты один, это производит впечатление. В боковом отсеке я столкнулся с Кандоласом. Здесь ему делать было нечего: он выполнял наземные работы. И именно поэтому и еще потому, что мне надоела его навязчивость, я грубо обрушился на него:
— Что вы здесь разнюхиваете?
Но он даже не изменился в лице и как ни в чем не бывало, спокойно, будто и не слышал моего вопроса, попросил:
— Дайте сигарету.
Он размял ее и, когда я поднес ему спичку, на губах его играла загадочная улыбка.
— Вы мне нравитесь, патрон, — сказал он. — Вы свой. Это за версту видно. А вот инженера Браза я бы сбросил в шахту не задумываясь. Вы другое дело. Вы свой. Это я знаю. Так ведь? Не надо говорить, что нет. Я, конечно, пьяница, оборванец, вы испытываете ко мне отвращение, я все вижу, патрон.
Он таращил помутневшие от водки глаза и грозил кому-то красным пальцем. Его слова разносило эхо во все боковые отсеки, казалось, будто дюжина ртов повторяла громко то, что следовало хранить в тайне.
— Пошли отсюда, — сказал я грустно.
Его тень, она была внушительнее и больше, чем моя, слилась с моей тенью, словно они готовились пожрать друг друга. У выхода из галереи нас встретил сырой порывистый ветер, швырнув нам в лицо сухие листья. Здесь, во дворе, сигналил автомобиль.
— Вы меня извините, что я вступился за того парня. Может, не мое это дело. Но поймите, патрон, ведь даже справедливое наказание может погубить человека. Парню-то теперь каждую ночь будет сниться погибший товарищ. И в том виноваты вы — прижгли больное место каленым железом.
Ноги подкашивались. Я замерз.
— Но если вы, — снова хрипло заговорил он, — если вы так строги к другим и проповедуете высокую мораль, как же вы сами позволяете себе подобные поступки?
Я почувствовал, что он сжал кулаки. Глаза его зло сверкнули, но тут же гнев погас в них.
— Так вот, все мы с дрянцой. И стоит только распустить себя, таких дров наломаешь. А когда тебя ткнут носом, сразу сообразишь, что к чему. Ну а тот, кто не выносит собственной вони, пусть затыкает нос.
Я еле сдержал улыбку.
Мы были около генератора, и дрожь моторов передалась моему телу. Ветер с Гордуньи дул все сильнее и сильнее, обжигая сухую, потрескавшуюся кожу. Я пошел по берегу реки и сел на пень. Кандолас встал против меня, потирая глаза и позевывая, будто хотел спать, потом вдруг мягко сказал:
— Когда вы били того парня, патрон, мне казалось, вы меня бьете. Чертовщина какая-то! Вы знаете, что я был в исправительном доме? Попал туда за то, что слонялся без дела. Там меня били, но, когда тебя бьют, тебе хочется быть хуже, чем ты есть. Вот так. Однажды в исправительный дом приехала труппа актеров, и, поскольку я был плотником, мне велели монтировать декорации. Это означало свободу, самую малость, но свободу, понимаете? Ведь от одного сознания, что дверь открыта, легче дышится. Вот так. Только может ли это интересовать вас?
Я утвердительно кивнул. С первых же слов я жадно, почти с болезненным нетерпением слушал Кандоласа, мне казалось, что вот-вот приоткроются сокровенные тайники этой мрачной и в то же время притягательной личности и я найду оправдание себе, своему желанию понять его.
— Продолжайте, Кандолас.
— Зачем, патрон? У вас есть дела поважнее. Есть, о чем болеть душе. Есть, что решать, и решать быстро.
Снова этот тип нагло и с определенным намерением изводил меня. Он хотел заставить меня действовать. Бунтовщик! И почему я все это терплю? Чем я дал повод для этих издевок? Мне хотелось пнуть его ногой, чтобы он отстал от меня. Однако вместо этого я решил сказать ему, вернее, вообразил, что говорю: «Хватит, Кандолас! Последнее время я много думал и… Так как нам саботировать?»