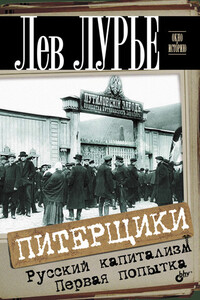Перформанс «Даёшь электрификацию!». Рид Грачёв, Михаил Красильников, Эдуард Кондратов. Ленинград, середина 1950-х. Из архива Льва Лосева
Владимир Герасимов вспоминал, что Кондратов, который учился в Школе милиции, приходил на филфак в милицейской форме. «И мы с Лешей Лосевым получали очень большое удовольствие, гуляя по факультетскому коридору: Кондратов в середине, мы по бокам, чтобы все знали, что у нас в милиции есть свои люди».
О другой кондратовской эксцентричной выходке вспоминает Михаил Еремин:«Тогда существовали так называемые перронные билеты. И встречая кого-то, мы могли благодаря милиционеру Еремину не платить этот самый рубль. Он мог провести к поезду без „перонного билета“. Как-то встречая наших друзей, нас человек тридцать собралось на Московском вокзале… Александр Кондратов, будучи в милицейской форме, подошел к контролеру и сказал: „Эти со мной“, и мимо изумленного контролера прошло человек 30. Это не было проявление жадности или скупости. Мы не были людьми богатыми, но рубль у каждого был».
Открытие купального сезона на спуске перед зданием 12 коллегий в апреле 1956 года. Владимир Уфлянд, Александр Шарымов, Михаил Красильников, Александр Анейчик. Из архива Н. Шарымовой
24 апреля 1956 года Уфлянд и Красильниковым открывали на Неве перед филологическим факультетом купальный сезон: по Неве плыли льдины с Ладожского озера, и Уфлянд с Красильниковым ныряли от льдины к льдине. На берегу стояли друзья наготове со шкаликом водки. А Еремин нес им вещи по Дворцовому мосту, чтобы они могли на том берегу реки одеться. Был принят за грабителя, но «остановивший меня милиционер понял, в чем дело, и беспрепятственно пропустил меня к месту выхода моих друзей на берег. Замечательные были времена», — вспоминал Еремин.
Поэты могли выпить фантастическое количество стаканов киселя в университетской столовой, или прилечь на заснеженную мостовую Невского проспекта, «чтобы получше рассмотреть звездное небо», беседуя «о Федоре Михайловиче на весах кантовых антиномий», или выкрасить канты своих ботинок белой краской.
Но главным развлечением представителей филологической школы было участие в праздничных демонстрациях.
Владимир Герасимов:«Красильников иногда выносил Мишу Еремина на своих плечах на площадь. А Миша в те годы был такой белокурый отрок с очень нежным цветом лица, хотя уже тогда говорил басом. И Еремин, размахивая флажком, на плечах Красильникова кричал басом: „Спасибо партии и правительству за наше счастливое детство!“ Мы все кричали „ура!“, и вся площадь подхватывала наше „ура“».
На праздновании Первомая 1956 года молодые люди вдоволь повеселились и захотели повторить это развлечение на ноябрьских праздниках. Но жизнь в стране уже переменилась. После подавления венгерского восстания легкомысленные шалости стали восприниматься как государственное преступление.
7 ноября 1956 года Михаил Красильников по обыкновению кричал на демонстрации бессмысленные лозунги. И после того, как крикнул: «Да здравствует кровавая клика Имре Надя! Ура!», а публика послушно ответила: «Ура!», к Красильникову подошли трое в сером, провели в машину…
Лев Лосев:«Миша потом говорил на следствии, что ничего не помнит, и, скорее всего, так оно и было, потому что он был весьма пьян. Очевидно, что его импульсы и мотивы были не политические, а эстетические. Он просто совершал хеппенинг».
Весной 1957 года на Дворцовой площади немногочисленные гуляющие наблюдали странное зрелище. Молодой человек стоит в кольце крепких правоохранительных господ, по-видимому, офицеров или солдат Комитета государственной безопасности, и по сигналу говорит: «Попупа, попупа, попупа, попупа». Один из правоохранителей отходит и что-то меряет с помощью электрического приборчика. Потом говорит: «Пожалуйста, еще раз, погромче». Молодой человек произносит: «Ляляля, ляляля, ляляля, ляляля».
— Очень хорошо.
Понятно, что нельзя было кричать то, что кричал Красильников на демонстрации. Например, «утопим Насера в Суэцком канале. Ура!». Но нужно было установить, была ли это антисоветская агитация, то есть слышно ли это было на трибуне. Оказалось — слышно. Результат — четыре года мордовских лагерей. Это и был последний хеппенинг поэтов филологической школы.