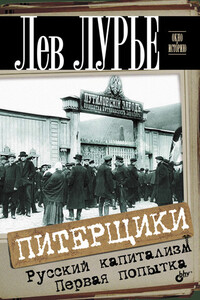Ленинградский уголовный розыск в середине сороковых работал на пределе сил. Ленинград был переполнен отчаявшимися от нищеты людьми. Жилья нет. Деревянные дома на рабочих окраинах либо сожжены, либо разобраны на дрова. Процентов 60 жилого фонда уничтожено или нуждается в капитальном ремонте. Во многие квартиры вселились новые жильцы и не желали отдавать их законным владельцам; правды не найти.
Эдуард Кочергин:«Ленинградские рабочие отдельных квартир не имеют. Живут в бараках, коммуналках и общежитиях, по несколько человек в комнате. В гости ходят в женское общежитие. Вся жизнь на виду. На заводах очень часто под общежитие пустующие цеха приспосабливали, жили в квартирах без стекол, без окон, с дырками в потолке и в полу. В одной комнате, бывало, жило по 5–10 семей. Жили под лестницами, в подвалах… А общежития сами их жители называли вертепами и концлагерями. В бараках для неженатых жило по нескольку сотен людей. Для семейных норма была больше, но это не означает, что у них были отдельные комнаты. Занавеской отделились друг от друга, кровати поставили: вот вам и 2–3 квадратных метра личной жилой площади».
Город все еще находился фактически на военном положении: въезд-выезд — строго по пропускам. Власти пытались ограничить поток ленинградцев, возвращавшихся из эвакуации. Но тысячи людей проникали сюда нелегально и оказывались в бедственном положении.
На работу без документов, без выписки с разрешением о въезде в город было не устроиться. Вернувшиеся люди оказались без средств к существованию. И это одна из причин резкого всплеска преступности.
Накопилось много специфической послевоенной злобы. Война разрушила миллионы семей, наполнила страну беспризорниками. Молодежь, пережившая ужасы блокады и трудности эвакуации, не очень-то верила в светлое будущее. Каждый выживал сам, в своей стае, по своим, не советским законам. В моде была блатная романтика.
Вот обычная песенка тех лет:
Мы носили в очередь брюки и подштанники.
Всё на свете семечки, друзья.
Были мы домушники, были мы карманники —
Корешок мой Сенечка и я.
Два бычка курили мы, сев в углу на корточки.
Всё на свете семечки, друзья.
В дом в любой входили мы только через форточку —
Корешок мой Сенечка и я.
Хотя полстраны с наслаждением напевали блатные песни, мальчишки учились говорить по «фене» и Ленинград захлебывался от грабежей и убийств, блатной мир имел к этому самое отдаленное отношение.
Настоящий блатной — это вор. Домушник, медвежатник, карманник. Но не убийца. Потому что профессионал хорошо знает Уголовный кодекс. За воровство дают от года до трех. За убийство полагается «вышка».
Эдуард Кочергин, сам проведший детство в приемниках-распределителях МВД и воровавший в поездах дальнего следования, говорит: «Вор — это ремесло. Профессиональный вор никогда не обидит прохожего, ни в коем случае, наоборот, это уголовная интеллигенция. А шпана — это никто».
Блатные на насильственные преступления шли очень редко. А если разбирались с применением оружия, то только в своей среде, за нарушение воровских законов, за стукачество. И старались делать это негласно, недемонстративно. Поэтому к шпане блатной мир относился очень осторожно.
Излюбленные жертвы шпаны — пьяные, не способные сопротивляться. Раздевание пьяных в милицейских сводках проходило отдельной статьей. Найти потенциальных жертв не составляло труда. В послевоенном Ленинграде множество пивных. И они никогда не пустуют.
«Когда мы учились в Горном институте, — вспоминал Александр Городницкий, — заключались пари — может ли человек дойти по Большому проспекту Петроградской стороны от Тучкова моста до площади Льва Толстого, заходя во все рюмочные. Очень культурные были заведения, к водке выдавалась закуска какая-нибудь. Обычно — бутерброд. Я помню, что наибольшей популярностью пользовался бутерброд, который назывался „Сестры Федоровы“[1]— четыре кильки на куске хлеба. В пивных ларьках не только пиво было, но и водку продавали».
Валерий Попов:«На углу Маяковской и Некрасова была страшная рюмочная, набитая инвалидами безногими. Оттуда веяло какой-то сырой овчиной, несчастьем, криками, драками, это была страшная рюмочная, послевоенная. Такое ощущение, что народ сознательно спаивали, этих обрубков, этих костылей, бывших офицеров, солдат, сержантов. Не нашли способ этот народ пригреть и занять, и это был один из выходов».