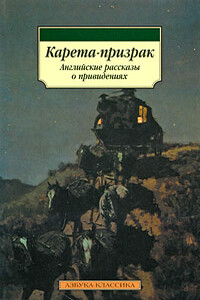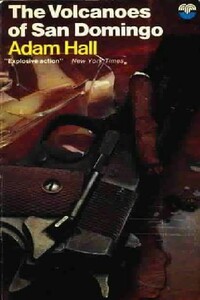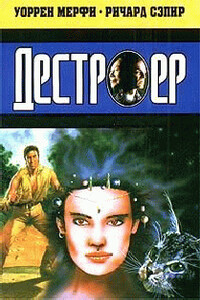— С ветчиной или с языком?
Очнувшись, я понял, что стою у самого прилавка. Бутербродная оказалась симпатичным, веселым, ярко освещенным местечком, и самой яркой и симпатичной ее принадлежностью был сам хозяин, краснощекий человек с лукавым огоньком в глазах и необъятным животом, — ну просто живой персонаж из Диккенса. Бутербродная была такая узкая, что товары тут едва помещались. Однако он превосходно справлялся с этой трудностью. На полке, тянувшейся вдоль всей стены, выстроились в ряд на сверкающих подносах аппетитные с виду пирожные и печенье, джемы и консервированные фрукты в блестящих банках, а в промежутках между этим живописным нагромождением цветов и форм смотрели на нас с картинок прелестные личики женщин, знаменитых чаровниц ушедшей, более счастливой эпохи — мисс Габриэл Рэй, мисс Мэри Стадхолм. На самом же почетном месте, совершенно неотразимый в своей треуголке, со взором, исполненным дерзости и отваги, красовался — кто бы вы думали? — лорд Бити,[3] собственной персоной. Две внушительных размеров емкости источали ароматы чая и кофе, а в витрине прилавка под стеклом была выставлена на всеобщее обозрение, могу сказать почти без преувеличения, целая коллекция настоящих музейных шедевров: селедка в обрамлении кружочков из сваренных вкрутую яиц, отливающие серебром сардины, прозрачно-розовые, похожие на россыпи драгоценных камней кусочки ветчины и горы бисквитных пирожных.
И среди всей этой роскоши мы были одни, если не считать нашего замечательного хозяина, который был занят не столько своими прямыми обязанностями, сколько сочинением письма какому-то своему знакомому.
Захватив с собой кофе и бутерброды, мы двинулись было к маленькому столику, втиснутому в единственный угол этого помещения, но вдруг хозяин, высунув свое краснощекое лицо из-за прилавка, хриплым шепотом спросил:
— Как писать «разно-бразный»?
— Простите? — не понял его сопровождавший нас джентльмен.
— То есть через одно «о» или через два?
— Через два, — любезно ответил джентльмен, — и по одному «а» в предшествующем и последующем слоге.
— Спасибо, — сказал хозяин и снова исчез.
Мы уселись за маленький столик вплотную друг к другу. Я своим боком ощущал колышущееся тело Хенча. Джентльмен был голоден как волк. Он поглощал бутерброды с такой жадностью, словно не ел несколько недель.
Я и сам был в таком положении, и, заметим, совсем недавно. Поэтому сочувствовал ему всей душой.
Перегнувшись через столик, джентльмен обратился к Хенчу и самым располагающим голосом спросил:
— Ну так что вы желаете посмотреть? У нас вся ночь впереди. Я мог бы вам продемонстрировать…
Но что он мог бы продемонстрировать, осталось неизвестно, потому что Хенч с яростью прервал его:
— Чем это мы занимаемся? Чревоугодничаем — вот чем мы здесь занимаемся! Не знаю, кто вы такой, сэр, но это не имеет ни малейшего значения. Весь этот город, в котором мы сейчас так беззаботно рассиживаемся, весь-весь, — отправится в ад! Дьявол грядет, он уже близко, и самое время для того, чтобы кто-то возвестил об этом. Я хочу сказать, что сегодня был убит человек, совсем недалеко отсюда, и, как я ни стараюсь, никому до этого нет дела. Нельзя терять ни минуты. Отведите меня к первому попавшемуся полицейскому. Пока мы открыто не покаемся, не будет мира нашим душам!
— К первому попавшемуся полицейскому? — промолвил джентльмен. — Это нежелательно. Увы, я не вожу с ними дружбу; на мой взгляд, это самая ограниченная публика в Лондоне. Вечно вмешиваются, не дают другим получать удовольствие от жизни… А что он имеет в виду, говоря о каком-то убийстве? — обратился он ко мне. — Что с ним такое?
Я был прижат к стенке. Опровергать слова Хенча я не мог — он раскричался бы еще пуще, выскочил бы с воплями на площадь, чего доброго, наткнулся бы на полицейского, и тогда конец, полное крушение наших жизней.
— Да вы сами его спросите, — сказал я, мимикой пытаясь внушить ему мысль, что Хенч от выпитого ли или от дурной головы мелет вздор, который не стоит принимать всерьез.
Но джентльмен уже потерял к нам интерес, поняв, что мы с Хенчем ему не клиенты. Он не мог себе позволить тратить на нас время, ибо время — деньги, и всеми помыслами был уже не с нами, а на улице. Утерев рот тыльной стороной ладони, он произнес, прикоснувшись рукой к шляпе: