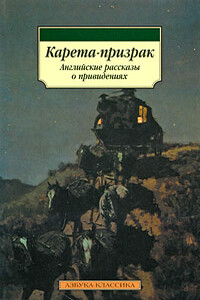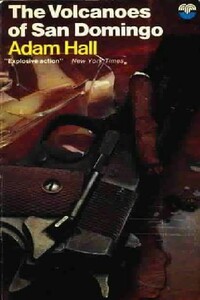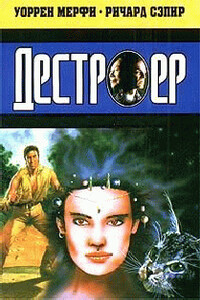И давний мой знакомый, кубок, сверкая золотом под черным как смоль небом, изливал рубиновые струйки ликера, трясясь и ежась под порывами злого ветра.
Джентльмен продолжал рассуждать тем же доверительным тоном, который с каждым словом становился все доверительней, а зубы его так и стучали от холода:
— Несчастье нашей страны в том, что мы крайне нелюбознательны. Почему, спрашиваю я вас, жители Лондона среди жителей всех прочих столиц мира являются самыми нелюбознательными и ничем абсолютно не интересуются? К примеру, попробуйте раздеться и пройтись нагишом по центру Лондона средь бела дня — ведь никто не проявит к вам ни малейшего интереса, никто не изъявит желания даже посмотреть в вашу сторону!
Слова «не изъявит желания» он произнес смакуя, почти нараспев, словно они вызывали у него некоторое чувственное наслаждение.
— Если люди не проявляют интереса к тем мерзостям, на которые вы рекомендуете им смотреть, то я их только одобряю, — произнес я наставительно. Я был в таком безумном напряжении и беспокойстве, что едва соображал, что говорю.
— Да бросьте, бросьте вы, — он стал разуверять меня свойским тоном, словно я был не случайный «клиент», а его родной брат, только что сыскавшийся после долгих лет отсутствия, — не надо быть таким педантом. По моему мнению, в этой жизни надо стремиться к одному — к расширению собственного кругозора. Против человеческой природы не попрешь. Надо есть и выпивать — все равно помирать.
Своей любовью к расхожим «душеспасительным» афоризмам он невольно напомнил мне моего друга Санчо Пансу.
— Я, например, считаю себя человеком с безгранично широким кругозором. Должен признаться, что это заслуга моей профессиональной деятельности. В этом мире меня уже ничто не может удивить. Я полностью защищен от любых неожиданностей и потрясений. Ну-ка удивите или напугайте меня! А вот и не получится!
Я позволил себе мысленно усомниться в его словах. Ничего, очень скоро представится случай испытать истинность твоих утверждений на деле, подумал я. Хенч, словно в лихорадке, подгонял нас. Мы свернули на Джермин-стрит и шли по направлению к Сент-Джеймс-стрит. Минуту спустя мы оказались перед скупо освещенной аркой, ведущей в узенькую галерею, служившую проходом для пешеходов и одновременно бутербродной.
До нас доносился шум с площади Пиккадилли, которая была отсюда всего в двух минутах ходьбы. Внезапно на фоне этого приглушенного гама я уловил звонкий ребячий голос с характерными металлическими нотками — мальчишка, разносчик газет, выкрикивал последние новости (а может, это мне только почудилось). Меня насторожило слово «убийство», но я не был уверен в том, что не ошибся, потому что к прочим шумам примешивался новый, свистящий звук — то задувал ветер, уже всерьез предвещавший бурю. Он несся по улицам, трепал омнибусы и автомобили, стучался в витрину напротив, где за стеклом толпилось множество часов и часиков разного калибра, которые своими круглыми личиками с опаской глядели на улицу; наигравшись с ними, озорник ветер с хихиканьем и воем летел к заднему дворику «Попьюлар кафе», откуда всегда пахло жареным мясом и слышалась джазовая музыка (установившееся для меня сочетание применительно к этому заведению); затем снова возвращался назад, подбирался к моим ногам и колючим, ледяным паучком заползал под брючины, покусывая голые лодыжки поверх носков. Он-то и принес мне этот безжалостный, резкий выкрик мальчишки — разносчика газет: «Убийство!».
Слово прозвучало единожды, но в эти доли секунды я снова пережил то, что обрушилось на меня в тот день, и передо мной возникло болтающееся над полом, корчащееся в конвульсиях тело Пенджли-первого, а потом — его труп, со стуком пересчитывающий ступеньки лестницы, поцелуй, которым одарила меня Хелен, задушевный, сладкий голос Пенджли-второго.
Передо мной разверзлась бездна отчаяния и горя, от которого, казалось, уже не было спасения, я был готов пуститься без оглядки наутек и бежать, бежать… Помню, меня остановила только мысль о Хелен, страстное желание быть с ней…
Я опять услышал над ухом вежливый и настойчивый, немного драматичный голос, который спросил: