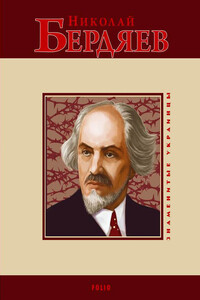Капли дождя стали уже замерзать на стеклах, видимость ухудшилась. Но редкие кустики по берегу Тареи разглядеть все–таки удалось — мы вышли на берег.
— Подвернуть вправо, держать вдоль берега до Пясины, — дал команду штурман.
Яковлев подвернул, высота уже сто метров. Переохлажденный дождь делал свое коварное дело. Самолет покрывался ледяной коркой, а на неубирающихся лыжах скапливалась дополнительная порция льда.
Приходилось добавлять мощности обоим двигателям, чтобы, сохранять необходимую скорость полета.
Теперь уже Яковлев вёл самолет в основном по приборам. Я открыл боковую форточку, стараюсь наблюдать в нее: Через переднее стекло ничего не видно — такое сильное обледенение, что тепло от трубы уже не помогает.
Что же делать? Возвращаться обратно нет смысла: ещё день–другой, и взлётная полоса на Диксоне выйдет из строя. Лететь в Игарку нельзя — не выполнено задание. Геологи без крыши, без продуктов. Пока высота позволяет, надо пробиваться в Усть — Тарею…
Внезапно дают знать о себе обледеневшие винты — появилась тряска моторов.
— Володя! Спирт на винты! А мне — отвертку, быстро!
Просовываю в форточку руку и, преодолевая скоростной напор встречного воздуха, с силой выдалбливаю отверткой маленькое «окошечко» на заросшем льдом стекле. Помогает и спирт — по фюзеляжу начинают барабанить срывающиеся с винтов осколки льда.
— Под нами домик! Без крыши! — кричит Яковлев.
— Крыша–то у нас! — пытается острить штурман. Но сейчас не до шуток.
— Володя! Курс для стандартного разворота с выходом на берег Пясины!
Стандартным разворотом называют в авиации разворот на сто восемьдесят градусов. Я выполняю его «блинчиком» — с малым креном. Самолет сильно обледенел, на полной мощности моторов он летит в «трехточечном положении», словно уже заходит на посадку.
— Справа берег! — громко докладывает Женя. Я подворачиваю; летим, вероятно, вдоль берега Пясины. Яковлев долбит отверткой «окошечко», штурман через голову бортмеханика мечется от моего стекла к стеклу второго.
— Вижу! — громко докладывает Стешкин. — Впереди по курсу…
Я тоже увидел обрывистый берег в устье Тареи. Но где же наша полоса, наши следы? Не вижу, не вижу…
Белявскнй внимательно смотрит на меня — ждёт положенных команд и, не вытерпев, быстро спрашивает:
— Закрылки — будем?
— Какие, к черту, закрылки. И без них идем почти на взлётном режиме моторов…
В этот момент мелькнула на белизне снега темная полоса. Наша лыжня! Весна пришла и сюда, укатанный след пропитался талой водой, только это и помогло нам разглядеть место посадки.
Я не успел даже убрать мощности моторам, как мы «приледнились». Прорулив немного подальше, остановились на сухом месте. И, посмотрев друг на друга, молча поздравили себя…
Ни до, ни после я никогда не видел, чтобы на самолете могло нарасти такое количество льда. На всех лобовых частях — на фюзеляже, на амортизаторах лыж, на стопках шасси — был сантиметровой толщины лед. Я уже не говорю о киле и стабилизаторе. А на крыльях лед снизу висел сосульками на каждой заклёпке вплоть до креплений элеронов. И вся эта масса успела образоваться за какие–то двадцать минут, несмотря на включённую систему противообледенителей…
Подошли геологи во главе с начальником:
— А мы и не ждали вас в такую погоду. Боялись, не скрою, что вы не успеете, ведь и у нас скоро ледоход должен начаться.
Дождь прекратился, геологи начали разгрузку А весь экипаж дружно приступил к освобождению ото льда самолета. Бить машину было не за что, но лед поддавался только после ударов резиновыми шлангами, которые нашлись у запасливого бортмеханика. Прощались сердечно. Начальник долго благодарил «воздушных каюров» — «первых помощников и друзей геологов!». Видно, он успел сообщить по радио о нашей посадке, потому что на подлетах к Игарке Николай вручил мне радиограмму:
«Борт Н-495, Лебедеву. Благодарю экипаж за успешное выполнение задания. Командир авиагруппы Погорелый».
В Игарке мы отдохнули всего, кажется, сутки Подоспело новое задание, и, конечно, срочное. Несрочных заданий в Арктике нет, без «воздушных каюров» не обойдешься!