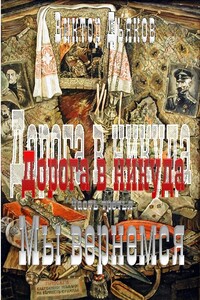– Так это ж… да все тут… разве что, вот тут двое юнкерей, да оне. Оне и стреляли будь здоров, человек двадцать варнаков уложили и патронов с собой много приволокли. Да, ежели бы не они, мы бы вряд ли этих варнаков удержали, патронов то у нас рази, что по десятку на брата было, а у их цельный мешок. А с патронами то чего, с патронами мы их тут наколотили… Ляпин пригляделся к «юнкерям», смущенно выслушивающими похвалы в свой адрес:
– Кадеты… из омского корпуса!?
– Так точно! Кадеты седьмого класса сибирского его императорского величества Александра первого кадетского корпуса!.. – перебивая друг друга докладывали ребята, из-за чего войсковой старшина не смог хорошо расслышать их фамилии.
– Как-как ваши фамилии? По одному говорите.
– Кадет Сторожев, – первым доложил Роман.
– Сторожев, хорунжий Макар Сторожев кем тебе приходится?
– Это мой отец.
– Молодец, скажу отцу, что замечательного сына вырастил.
– Ну, а твоя, кадет, какая фамилия?
– Кадет Фокин, господин войсковой старшина! – вытянувшись во фрунт представился Володя.
– А ты откуда, местный?
– Из станицы Усть-Бухтарминской.
– Аааа, тогда и твоя фамилия мне знакома. Тихон Никитич Фокин, станичный атаман, не твой папаша, уж больно ты на него похож?
– Так точно, это мой отец!
– Молодцы ребята! Телеграфирую о ваших подвигах в корпус, и в Усть-Бухтарму тоже. И отцы, и воспитатели корпусные пусть гордятся, каких героев вырастили…
Восставших хоронили в тот же вечер за крепостью около скотобойни. Несколько рядов голых трупов лежали один подле другого и по ним ползали большие зеленые мухи. Приехал на двуколке высшее духовное лицо города и уезда протоирей Гамаюнов, в черной рясе с крестом. Отмахиваясь от мух, он каждому трупу вставил в нос свернутую в трубочку бумажку – анафему. С этой трубочкой захоронили и едва опознанного, с обезображенным сабельным ударом лицом Василия Рябова… Яков Никулин, плененный со своей группой на левом берегу Иртыша, попытался сойти за рядового, но один из арестантов его выдал, указав на него как на их командира. Новоусткаменогорские казаки не стали проводить никакого дознания, а расстреляли его прямо в степи, после чего другие арестанты его же и закопали…
Никита Тимофеев просидел в кустах на берегу Ульбы до поздней ночи. Город был настолько невелик, что и не зная его найти нужный дом, имея точную ориентировку, не составляло труда даже в темноте. Тимофеев же немного знал Усть-Каменогорск, так как еще до войны часто бывал здесь, а из рассказов Рябова он примерно представлял, где находится дом его матери, у которой снимал комнату руководитель уездного подполья. Выбираться из города, все подступы к которому перекрыли казачьи разъезды, выставленные чтобы ловить таких как он, сумевших спрятаться арестантов, было крайне рискованно, и он решил воспользоваться помощью Бахметьева. В дом стучался с опаской – а вдруг ошибся адресом. Когда настороженный женский голос спросил: «Кто там?», ответил:
– К товарищу Бахметьеву, – сказал и замер, готовый тут же выстрелить, либо пуститься бежать по темным переулкам. Но дверь открылась и его впустили.
Узнав, что он арестант из крепостной тюрьмы, женщина стала чуть не со слезами допытываться:
– Мил человек… ты там сына мово Василия не встречал, такого небольшого росточка, Рябов его фамилия. Что с ним, жив ли после того, что днем тама было?
– Прости мать… не знаю, в моей камере не было такого, а когда заваруха началась, я вместе со всеми побежал, а потом спрятался. А как ваш дом найти мне один товарищ рассказал, чтобы товарища Бахметьева найти, – соврал Тимофеев.
Впрочем, уединившись с Бахметьевым, он уже чистосердечно рассказал все, что знал о подготовке восстания, о нем самом, и о том, что скорее всего Василий Рябов погиб… На следующий день Бахметьев выправил своему ночному гостю более или менее подходящие документы, дал другую одежду и поспешил отправить «горного орла» по направлению к Риддеру, где в горах продолжали ни шатко, ни валко партизанить его товарищи.