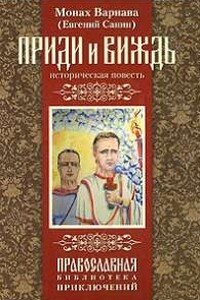Впоследствии, много лет спустя, Екатерина признавалась, что твёрдости характера и умению противостоять превратностям судьбы она в значительной степени обязана осени 1746-го. То было для неё психологически переломное время, когда девушка внезапно, как в ясновидческом трансе, осознала, что для неё немыслимо движение назад к счастью, поскольку там, сзади, никакого счастья не было и в помине, и что, по сути, кроме графини Бентинген, она никого — ни отца или брата, ни тем более мать и Бабет, — никого видеть не желает, причём не желает отнюдь не от жестокого своего сердца, но потому что — незачем. Однако же и вперёд к счастью двигаться оказалось также немыслимо, потому как этой осенью она утвердилась во мнении, что, так сказать, впереди у неё счастья нет и никогда не будет.
О, грусть; о, горечь спокойного предвидения! О, невосполнимость украденных иллюзий и тщетность поиска паллиативов!
О ч-чёрт!!
Какое же могло быть впереди счастье, когда склонённый таки хитростью, вином, женской лаской и коварством к исполнению обряда defloration[85] злой мальчик немного подвигался в сжавшейся, словно комок мускулов и нервов, супруге, вышел из неё и сказал преспокойным, чуть западающим на согласных звуках голосом:
— Ну уж нет, увольте великодушно! — как если бы речь шла о том, что ему предложили попробовать яблоко, пришедшееся, однако, не по вкусу привередливому дегустатору.
— Ваше высочество, хоть до конца-то доведите начатое! — плачущим голосом пробовала упросить его супруга, добившаяся, правда, совершенно иного результата.
Оправив на себе ночную рубашку, просторную и красиво расшитую на груди, из-под которой торчали две голубоватые худенькие ноги, Пётр вдруг рассердился:
— Я сам лучше вас понимаю, что мне делать! Захочу — сделаю, а не захочу — ни вы и вообще никто не заставит меня, это вам понятно?! — Расходясь всё больше и больше, распаляясь от звука собственного голоса, он легко перебрался в следующий регистр и уже буквально кричал Екатерине в лицо: — И не смейте никогда меня учить!
При этом «ни-ког-да ме-» обратилось в женский визг (спрятавшийся за стенкой шпион, окажись сейчас тут такой, и не поверил бы, что кричит мужчина), тогда как «-ня у-чить» получилось и вовсе фальцетом.
— Извольте идти к себе в спальню! — приказал Пётр и начал торопливо натягивать штаны.
А осень, какая волшебная выдалась в тот год осень в Петербурге! Простоявшая лето заброшенной и никому, казалось, не нужной, вдруг ожила Адмиралтейская верфь, и Екатерина, проезжая в карете с таким расчётом, чтобы по левую руку оставались корабельные стапели, с удовольствием наблюдала, как мускулистые, загорелые, с забавной повязкой на голове (чтобы длинные волосы, как ей объяснили, не мешали работе) плотники и корабелы музыкально тюкали топорами в свежеоструганные брёвна и доски; сентябрьское солнце ярчайшими бликами вспыхивало на лезвиях топоров и матовыми расплывами отражалось на загорелых мужских плечах и спинах. На приличном отдалении от корабелов в ряд, как стрижи на ветке, обыкновенно восседали принёсшие обед мастерам желтоголовые пацаны и девчонки в некрашеных бедных платьицах. Тут же стайкой располагались ничейные, крепкие и молодые женщины, соломенные вдовы, налитые молодостью, здоровьем и женской силой, запасшиеся терпением и коварством: они безучастно сидели на траве или подстеленных под себя рогожках, не разговаривали друг с другом, никаким рукодельем себя не обременяли, и вообще было не вполне ясно, какого же дьявола они тут находились. Но стоило хоть кому-нибудь из корабельных мастеров направиться к зарослям близрасположенных кустов, чтобы