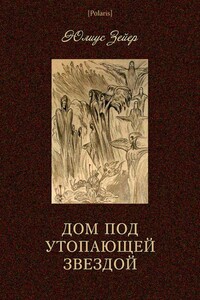— Что, нравится, папаша? — спросил Ропот.
— Доброе дело, оно завсегда нравится, — ответил старик.
К братской могиле подходили все новые и новые люди. Пришел сюда и Леонид Градов с Демкой Вьюном послушать, что говорят об их вчерашней работе.
Подул суховей[67], набежал горячей волной на станицу. Поднялась желтая пыль, и небо окрасилось в зловещий цвет. Направляясь от братской могилы к крыльцу ревкомовского здания, где толпился народ, Ропот заметил Лаврентия Левицкого, шедшего вместе с Федотом Молчуном.
— Здорово, Лавро! — Ропот поднял руку. — Давно я с тобою видался. Вот.
— Да, времени прошло много, — косясь на Молчуна, ответил Лаврентий. — Кажись, ще с восемнадцатого.
— Ты у кого воевал? — поинтересовался Ропот.
Лаврентий, не ожидая такого вопроса, смущенно опустил глаза, пожал плечами.
— Как тебе сказать, Прокофьевич… Последнее время был на польском фронте, у Буденного.
— Я сам почти весь девятнадцатый прослужил у него, — сказал Ропот, подкатывая глаза.
— А под Киевом ранили, пришел домой, — поглядывая на собеседника, нахмурился Лаврентий.
— Куда ж тебя?
— Под дужку[68] клюнуло, — указал Лаврентий на левое плечо.
— Мослак[69] не задело?
— Нет, мякиш только пробило. Уже все зажило.
Ропот кинул окурок, поскреб подбородок.
— Помню, — начал он скороговоркой, — отпустил меня Семен Михайлович на побывку и самолично написал такую бумагу, с которой никто не имел права задержать меня. Прибыл я, значит, в Харьков на станцию, чтобы оттуда ехать домой, а там поезд какого-то важного начальника: от преда Реввоенсовета, что ль. А в вагон меня не пущают. Подхожу к военному, мол, так и так: мне домой надобно. Показываю ему бумагу. А он ни в какую и слушать меня не хочет. «Это, — говорит, — поезд не для вашего брата». Меня так и въело, кольнуло под самую ложечку. Не вытерпел я такой безобразии да за петельки его. А живец-то у меня добрый был. Тут из вагонов на наш гвалт высыпали военные. Самый старший проверил мои документы да и посадил, как графа. Вот.
— Бывали и у нас такие куплеты, — с важностью сказал Лаврентий. — Робеть там нельзя, а то курица обидит.
Из-за угла вынырнул юродивый, который был накануне в монастыре. За ним гурьбой бежали ребятишки и громко кричали:
— Лука, затанцюй, шось[70] дамо!
Лаврентий поглядел на них из-под руки, промолвил:
— Ач ребятенки за дураком как быстрятся…
Лука хлопал в ладоши, отплясывал трепака на пыльной дороге. Мальчишки потешались над ним, бросали в него камнями. Лука сердился, гонялся за ними.
— Зачем божьего человека обижаете? — пригрозил малышам отец Валерьян, поп станичной церкви, который только что отслужил заутреню. — Грех вам будет.
— Накажи, накажи их, отец! — раздался трубный голос юродивого.
Вьюн подозрительно уставился на пришельца. С одной стороны, ему бросились в глаза рубища этого божьего человека, а с другой — выхоленное лицо и руки.
— Чего ты? — спросил у него Леонид.
— Какой-то он подозрительный, — сказал Вьюн.
Клава Белозерова так же с опаской взглянула на Луку, которого продолжали преследовать мальчуганы.
— Клава, Клава! — неожиданно окликнул ее кто-то.
Клава остановилась. К ней подбежала высокая, статная девушка с длинными черными косами.
— Ой, Аминет! — радостно вскричала Клава и бросилась ей на шею. — Знаешь, сегодня у нас после митинга будут комсомол организовывать.
— Знаю, — протянула Аминет, одобрительно мотая головой. — Я затем сюда и приехала…
Два милиционера вынесли на высокое крыльцо ревкома стол, накрыли его красным полотнищем.
В дверях показались Корягин, председатель коммуны Доронин. За ними семенил Козелков.
Заняли места у стола. Станичники все еще продолжали шуметь и волноваться. Корягин, открыв митинг, сказал:
— Товарищи, тише! Прошу внимания.
Площадь постепенно успокаивалась. Корягин шарил но ней прищуренными глазами, а когда совсем стало тихо, продолжал:
— На Советскую Россию, как вы уже знаете, товарищи краснодольцы, зараз[71] снову напала вся мировая гидра, каковая притаилась среди нас после ее всеобщего разгрому в девятнадцатом году, и каковая находится за границей, хочет задушить руками панской Польши молодую нашу республику, потопить нас в море крови! Особливо эта заваруха чувствуется у нас на Кубани, куды бежала со всей России в первые дни революции вся буржуазная контра, свила тут себе осиное гнездо, притихла поперву, схоронила свое жало, приняла этакую мирную личину, покедова набирала силу, а сейчас опять подняла голову, распущает свой яд промеж нас и заражает им честных казаков, воротит их не в ту сторону, куды надобно. У нас, большевиков, это называется контрреволюцией, за каковую мы ставим к стенке! А иначе как же? Гидра эта нас не милует. Потому и мы с тех же соображениев с нею не нянькаемся. Вы поглядите, каковой только нету на Кубани швали