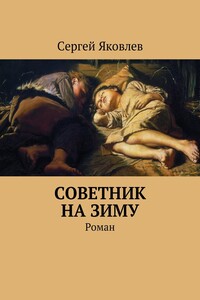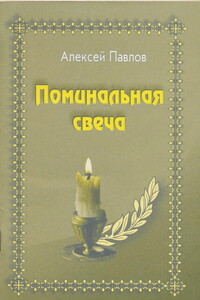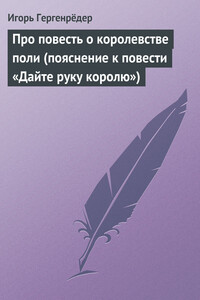Мне очень жаль, что я не сохранил его для себя. Уверен, правда возражений Дедкова звучала бы сегодня убийственно. Это мы сами, как всегда торопящаяся и крайне неосмотрительная в выборе средств российская интеллигенция, вырыли себе помойную яму, в которой беспомощно барахтаемся вот уже много лет.
Одна из последних моих встреч с Игорем Александровичем состоялась весной 1993 года, когда мы оба смотрели на происходящее в стране уже одинаково — говорю об ощущениях, но не об уровне мысли и нравственном мужестве Дедкова, здесь перед ним можно только преклоняться. Я зашел тогда к нему в "Свободную мысль" — блистательный общественно-политический журнал, в считанные месяцы созданный волей и талантом Дедкова (в союзе, конечно, с главным редактором Н. Б. Биккениным) из бывшего “Коммуниста". Занес ему свой журнал; посетовал на бедность и пустоту жизни, усугубляемые, как в худшие застойные годы, невозможностью как-то влиять на абсурдные и катастрофические процессы в стране. Соглашаясь с последним, Дедков, как всегда, предпочитал напоминать о внутренних задачах и важности простых человеческих обязанностей; его душевный подъем в разговоре, сам его звенящий голос лучше всего об этом свидетельствовали. Ему иравилась моя, написанная еще в 70-х и только что впервые увидевшая свет, повесть "Река", он собирался выставлять ее на премию Букера. Положив руку на стопку "Странника", горячо убеждал:
— Вам уже столько удалось сделать!
Он тоже знал тоску и опустошенность, об этом можно сегодня прочесть в его посмертно изданных дневниках. Не уверен, под силу ли мне, вообще, осознать меру его отчаяния в тот период, о котором рассказываю, — говорят, именно эти-то годы его, всю жизнь желавшего перемен и звавшего их, и убили. Но даже последними остатками своих сил он делился с другими, стремясь к тому, чтобы жизнь, как бы там ни было, продолжалась. Такой уж заряд был вложен в него природой.
Потом я слышал, что он болел, и осенью опять зашел в редакцию — проведать. Дедков был все так же приветлив и бодр, только чуть больше, казалось, погружен в себя.
— Вы лежали в больнице? Что-нибудь плохое? — неумно спросил я, подразумевая какие-то возрастные недомогания.
— Сергей, что хорошего может быть в больнице? — неожиданно сумрачно ответил он вопросом на вопрос, и я понял, что разговаривать на эту тему ему не хочется.
Потом он слег надолго. Потом опять вернулся к работе. Временами справляясь о его здоровье (чем болел, мне так и не говорилось), я узнавал, что он то появляется в журнале, то лечится дома, то в больнице...
Его-то номер я и решился набрать в тот горький вечер после звонка Залыгина.
Не помню, кто взял трубку. Наверное, Тамара Федоровна, жена, и, наверное, предупредила, что Игорь Александрович очень слаб, и все-таки соединила нас.
Он почти не мог говорить, задыхался. Сказал, что лежит, нет сил работать, а очень бы надо откликнуться на то, как безобразно встретили в Думе выступление Солженицына, и особенно на постыдную реплику об этом Нуйкина в "Литературке". Сам спросил о моих делах. Я коротко рассказал, что принял неожиданное предложение Залыгина, но теперь, кажется, придется уходить. Что редакция яростно ополчилась против, там такие же Нуйкины и хуже. Что вместе со мной "слетит" в журнале, видимо, и мой новый роман — современный и почти документальный, как раз о том, что сейчас с нами происходит.
— Я ничего не знал, — медленно, с усилием сказал Игорь Александрович. — Я ведь давно никуда не выхожу, все связи оборвались.
— С Залыгиным тоже?
— Ну, конечно, Сергей!..
Он думал. Перебирал вслух имена сотрудников. А что такой-то? А этот? А Сережа Костырко? Он как будто человек здравомыслящий?..
(Я тоже одно время так думал. Работая в подчинении у Роднянской, Костырко удалось создать себе репутацию оппозиционера, противостоящего ее религиозно-консервативным взглядам. Это было выгодно, как я убедился позже, обоим — когда, например, они, "такие разные", отказывали какому-нибудь автору. К сожалению, более близкое знакомство с Костырко открыло мне и другие малопривлекательные его черты.)