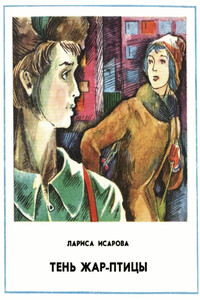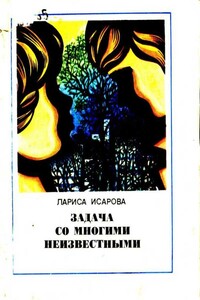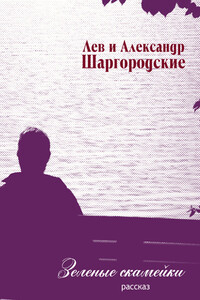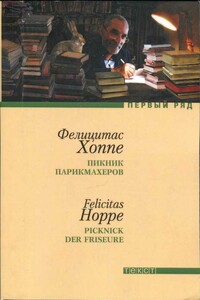— Но он так подчинялся Ланщикову в классе…
— Пока его отец жил, он был на подхвате, а как Ланщиков остался на бобах из-за мамочки — задрал перед ним нос. Как же — великий парикмахер, деньги после каждой смены из карманов швырял дома на стол, вроде не считая, а помнил до копейки…
Отзвук давней зависти, восхищения мелькнул в ее тоне, но лицо оставалось неподвижным, усталым.
— Три года назад Лисица задурил Ланщикову голову, уговорил продать подвески от медальона, бумаги, большие капиталы пообещал. Дал задаток, остальное не успел, того арестовали. А как Ланщиков вернулся — отперся от долга, пригрозил, что в милицию сообщит.
Лужина усмехнулась.
— Ну, Ланщиков ко мне и пристал. Просил, чтобы я подтвердила, что подвески он взял.
— И ты сказала об этом Лисицыну?
— «Любовь — книга золотая»… — Голос ее стал мечтательным. — Помните, в школе проходили Алексея Толстого, мой любимый писатель…
На секунду я решила, что она меня разыгрывает, но тут же Лужина продолжила четко, жестко:
— Не думала я, что Лисица пойдет на убийство. А после кафе испугалась. Я — единственный свидетель, они у меня медальон Потемкина курочили, да и про аллергию Ланщикова я знала… И беременна от Лисицына…
Она тяжело вздохнула.
Я отчетливо вспомнила, как три года назад Ланщиков в кабинете следователя отрицал, что на медальоне были подвески.
— Влезла я в его дела по глупости, — продолжала Лужина, — потом — от жадности, а дальше — коготок увяз…
Она сидела, подставив солнцу поблекшее лицо с желтыми пятнами.
— И красивый он, и легкий, а только злой, как тарантул. Хоть шута и разыгрывал когда-то. А думал, как бы больнее укусить, потихоньку.
Лужина посмотрела на часы.
— Пора. Я тут все написала о Лисицыне. Раньше в милиции я отмалчивалась, боялась его, а теперь, раз арестовали, не выкрутится. И его клиентки не помогут.
— Так его ненавидишь?
— А вы бы простили парня, когда, погуляв пять лет, он бы вам сказал: «Адью, у меня новая невеста, мы больше не знакомы, разойдемся по-доброму, как в море корабли»?!
И все-таки мне не верилось, что Лужина только из ревности решила рассказать о Лисицыне. Есть натуры, которым таланта любви отпущено меньше нормы. Эту мини-норму она исчерпала давно, еще в школе. И больше никого не любила, кроме себя. И вдруг я спросила, чисто импульсивно:
— А как ты познакомилась с потомком Шереметевых?
— Значит, вы знали о нем? Почему же молчали? Его привел в наш магазин Парамонов-старший. Старик принес барельеф. На подонка не похож… Сказал, что дома много хлама, а ему не нужно ничего, что волнует память. Каков он был? Добрый был, но не в себе. Говорит-говорит и вдруг задумается — и все, точно не здесь, не с вами… Ямку я запомнила на подбородке, вроде шрама, и глаза пыльные, в красных веках, без ресниц.
— И ты пошла к нему домой?
— Как товаровед. У него мать была из Шереметевых. Бывший художник… Разные люди к нему ходили, не одна я. И Маруся и Ланщиков. Они подружились… Кажется, он начал его рассказы записывать…
— Продажа антиквариата шла через магазин?
Лужина усмехнулась.
— Частично. У нас есть постоянная клиентура. Виталий Павлович далеко не все оформляет по квитанции. Старик и подарил мне эту проклятую вышивку. Подарил. Подарил, так и знайте!
Она почти кричала, читая на моем лице недоверие.
— Старика тоже убили?
— Да нет, зачем же, своей смертью… Старый он был, по жене тосковал, она его бросила…
Меня зазнобило.
— Вот вы не верите, а он мне вправду подарил вышивку. В благодарность. Он начал к нам в магазин таскаться, а потом я его раз на улице встретила, такой замерзший, жалкий. Недалеко от моего дома. Я к себе позвала, чаем напоила. Потом носки дала, толстые, деревенской вязки. И рыбу с собой ему всунула, настоящий рыбец копченый. Лисицын из Ростова привез. Он только повторял: «Добрая, до чего ты, душа, добрая…» А через месяц притащил эту вышивку. Я Марусе отдала…
— Бесплатно?
— Может, я и стерва, но не дура, она деньгами могла кухню оклеить…
— Но ведь она только ковры скупала?
— А потом втемяшилось: вышивки бисером благороднее, солиднее…
— Ты эту вышивку не разглядывала?
— То-то и есть, что сглупила. Раз подарил за так, я и решила — вещь вшивенькая. — Лицо ее исказилось… Она мучительно страдала от мысли, что упустила свое «счастье».