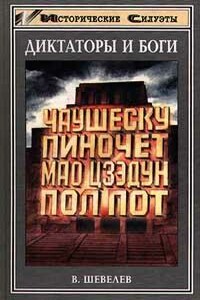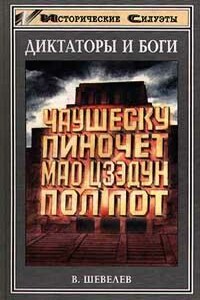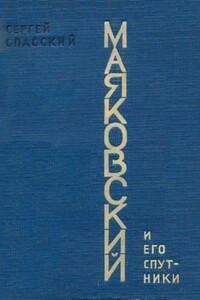Но принятые XXII съездом резолюции оказались более сдержанными в критике Сталина и сталинизма, чем прозвучавшие на нем выступления. Вопреки мысли Хрущева о необходимости продолжать изучение вопросов, связанных с политикой сталинских репрессий, в резолюции съезда утверждалось, что «партия сказала народу, всю правду о злоупотреблении власти в период культа личности». Иначе говоря, все это — в прошлом. Однако демократически настроенная интеллигенция отнюдь не собиралась рассматривать сталинизм как «факт истории». Писатель Эммануил Казакевич, обращаясь к Хрущеву, говорил о необходимости тесной взаимоувязки двух основных вопросов XXII съезда — Программы партии и критики Сталина. Это неразрывное целое, и нельзя быть за первое, не будучи за второе. «Полная ликвидация культа Сталина — необходимость», — настаивал Казакевич.
Многие из представителей партийно-государственной верхушки были недовольны новым витком десталинизации. Второй человек в партийно-государственной иерархии Ф. Козлов, выступая вскоре после съезда перед слушателями Высшей партийной школы, заявил, что на XXII съезде вместо обсуждения главного события — новой Программы КПСС — неожиданно получилось «второе издание» XX съезда. «Подобный перекос надлежит выправить», — говорил Козлов.
Очевидный разрыв, отсутствие взаимосвязи и взаимообусловленности между двумя основными «блоками» XXII съезда — Программой КПСС и критикой Сталина — свидетельствовали о поспешности и непродуманности нового шага Хрущева и предопределяли «разброд и шатания» в общественном сознании. Мало кто из критически настроенных и думающих людей близко к сердцу воспринимал хрущевских «планов громадье». Планы построения коммунистического общества на фоне нищеты и убожества сельской жизни и серости городской культуры воспринимались как весьма отдаленный, скорее всего, несбыточный идеал.
Что же касается сталинской эпохи, то она была еще близка; раны, оставленные бессудными репрессиями, и миллионы жертв взывали к совести и душевному пробуждению. Хрущев, ведя свой натиск на фигуру Сталина, стремился также вытравить из сознания и психологии людей дух сталинского тоталитаризма. В этом смысле эмоциональный взрыв Хрущева и душевный порыв демократических слоев интеллигенции совпадали.
«Истинно исторические перевороты не те, которые поражают нас своим величием и силой, — пишет Г. Лебон. — Единственно важные перемены, из которых вытекает обновление цивилизаций, совершаются в идеях, понятиях и верованиях. Крупные исторические события являются лишь видимыми следствиями невидимых перемен в мысли людей». В этом смысле 1956–1961 годы стали, несомненно, переломными в историческом процессе отхода от пут тоталитарного существования. Несмотря на то, что сохранялось мощное противодействие десталинизации как в высших эшелонах власти, так и на уровне повседневного сознания, процесс этот остановить уже было невозможно. Изменения в умах и мышлении, переворот в интеллектуальной жизни, ростки свободомыслия, ожидания демократических перемен — все это рождалось на волне критики Сталина и сталинизма. Недаром, обращаясь к Хрущеву, писатель Василий Гроссман пророчески утверждал:
«Вы на XXII съезде партии безоговорочно осудили кровавые беззакония и жестокости, которые были совершены Сталиным. Сила и смелость, с которой вы сделали это, дают все основания думать, что нормы нашей демократии будут расти так же, как выросли со времен разрухи, сопутствовавшей гражданской войне, нормы производства стали, угля, электричества. Ведь в росте демократии и свободы еще больше, чем в росте производства и потребления, существо нового человеческого общества. Вне беспрерывного роста норм свободы и демократии новое общество мне кажется немыслимым».
Конечно, тогдашняя эпоха и сама личность Хрущева накладывали свой отпечаток на процесс десталинизации, предопределяя его непоследовательность и ограниченность. Утверждалось, что причины культа личности никак не обусловлены природой советского общественно-политического строя. Нигде не говорилось об ответственности партии, ЦК, Политбюро за установление режима единоличной диктатуры Сталина. Ни в выступлениях на съезде, ни в партийных документах Сталина так и не решились назвать преступником. У самого Хрущева подобное определение в отношении Сталина появляется только в мемуарах.