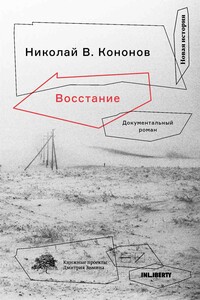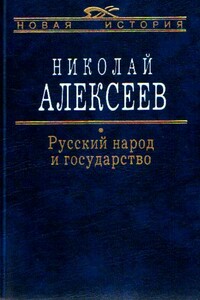Мы здесь живем - страница 97
Летом мы здесь не только сплавляли лес, но и проводили время в свое удовольствие. Многие здесь рыбачили самодельными и запрещенными орудиями. Тут же варили уху тайком от конвоя и начальства, часто совершавшего набеги на биржу из-за ответственного момента — сплава. Костры нам строго-настрого были запрещены во избежание пожара. Но зэки народ изобретательный и хитрый. Здесь было полно малины, и мы паслись под носом у конвоя, который завидовал нашей возможности лакомиться спелой ягодой. Осенью здесь были и грибы, но я их уже не захватил…
Начальство на все это смотрело сквозь пальцы, хотя нет-нет да и устроят облаву на отлынивающих от работы. Но в карцер во время сплава обычно никого не сажали даже за пьянку. Начальство считало, что каким бы плохим работягой ни был иной зэк, выгодней его было гонять на биржу, чем сажать в карцер. Хоть одно бревно да столкнет он за день в реку. А в карцере от него не будет и этого.
А уже шло лето. Зэки в моем положении считали дни до освобождения. Многие заводили самодельные календари и ежедневно отмечали прожитые дни. А я чем ближе приближался к июлю, тем чувствовал себя беспокойнее. Жил ожиданием, что вот-вот мне вновь предъявят какое-нибудь липовое обвинение.
В разгар весны мне пришла посылка — законные пять килограммов продуктов. Выдавал мне ее лично опер Сирик, хотя обычно посылки выдает цензор. Но Сирик сам все перещупал своими пальцами. Сам протыкал халву шилом, ломал плитки шоколада, разворачивал конфеты и ножом резал каждую из них надвое. Но так ничего и не нашел.
С самого моего прибытия Сирик строго следил за мной. Когда я был на работе, он с помощью надзирателей лично перетряхивал мою постель и тумбочку. Иногда он ловил меня где-нибудь в зоне и устраивал мне обыск на месте.
Однажды, стоя перед обыскивающим меня Сириком, я не выдержал и спросил его:
— А вам не стыдно? Офицер обыскивает заключенного! Ведь эту работу могут сделать ваши подчиненные — сержанты и старшины.
— Нисколько, — было мне ответом под многозначительное хихиканье зэков, окруживших нас.
Зэки такому вниманию Сирика ко мне дивились — я не играл в карты, не был наркоманом и вообще не занимался в лагере ничем недозволенным. А я не раскрывал его причин.
Вообще эта публика — чекисты, как они именуют себя, — пародия на человека. Все человеческое для них, в отличие от знаменитого выражения основоположника марксизма, не только чуждо, но и враждебно, непонятно. Человеческое достоинство они не только не ценят в другом человеке, но и вообще не знают, что это такое. Честь, совесть, принципиальность, убеждения… все это далеко за пределами их воображения. И не понять иной раз: то ли они считают себя выше всего этого нагромождения человеческих ценностей, то ли сие им просто неведомо. Служат они фанатично, по большей части бездумно, и готовы на любые действия, лишь бы они были санкционированы начальством, властью. Нет такой пакости или преступления, которое заставило бы их хотя бы задуматься, прежде чем совершить его.
Вот у меня в Чуне делают обыск кагэбэшники из Иркутска. Со знанием дела и серьезно мужчина средних лет в чине подполковника ощупывает собственноручно наше грязное белье, «разбирает» в уличном сортире использованную бумагу…
На замечание Ларисы, что в дореволюционное время такую работу выполняли чины рангом пониже, он отмалчивается.
Вот другой чекист — начальник чунского КГБ майор Елизаров. Все время, пока я находился в ссылке, он усиленно искал ко мне ход. Вербовал рабочих чунского ЛЗК, чтобы ходили ко мне в гости и потом докладывали ему обо всем услышанном и увиденном. А потом, возможно, рассчитывал использовать их просто как провокаторов. Вербовал он людей обоих полов и всех возрастов, даже целыми семьями.
С семьями он поступал так: вызывает для беседы жену и уговаривает работать на него. После беседы предупреждает, чтобы об их «беседе» никому не рассказывала, даже мужу и детям. То же самое проделывает с мужем и детьми. У одних брал подписку о неразглашении, у других нет.