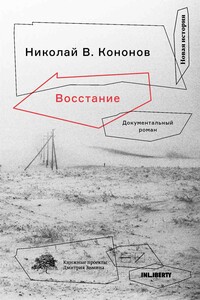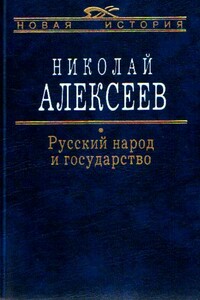Уже почти в темноте приехал следователь с двумя мужиками-понятыми. Составили протокол со всеми формальностями и подробностями и обещали «искать».
После этого я несколько раз наведывался в РОВД узнать о результатах расследования, и каждый раз мне Беневский или другой офицер с ухмылкой отвечал: пока ничего не обнаружено. Сам вид отвечающего как бы говорил мне: чего зря спрашиваешь, ведь и ты, и мы знаем, в чем дело.
И точно: я ни минуты не сомневался, что, кроме ГБ, никого тут винить нельзя.
Если можно поверить в обычную версию с кражей машинки, то никак не поверишь, что преступники не брали новенькие заграничные вещи, а брали рукописи, в которых только я и мог разобраться. А фотография Григоренко? А книжки?
И как тут не вспомнить одно из определений фашизма и тоталитаризма, данное этим формам государственной власти на Нюрнбергском процессе, смысл которого примерно такой: «Фашизм не может существовать законно и закон не может существовать при фашизме». Но когда я позвонил об этом друзьям в Москву, то оказалось, что не со мной первым проделала такой фокус ГБ. То же самое или почти то же они проделали недавно и с Солженицыным.
* * *
И вот день 17 февраля — конец срока моего надзора. Иду в милицию узнать, что же со мной будет дальше. Мне велят зайти завтра после обеда.
В Москве друзья тоже волнуются: продлят или нет?
За все время, что я пробыл под надзором в Чуне, у меня не было со стороны милиции ни одного замечания. Да и что могло быть? Только какая-нибудь ложь. Я никуда не ходил и в поселке почти не бывал. Все время, когда был не на работе, сидел дома.
А кража? — напоминал я себе. А само установление надзора?
А…?
Где гарантия, что и на этот раз ты не окажешься вне закона? На следующий день прямо с работы иду в РОВД. Зам. начальника по политчасти объявляет мне в своем кабинете:
— Надзор вам решено продлить еще на шесть месяцев.
— Основания?
— Вы не соблюдали правил надзора.
— Не смешите людей, мне по закону должны были об этом объявить под расписку после установления факта нарушения. А у меня нет ни одного замечания.
— Наш сотрудник, знающий вас лично, видел вас после двадцати двух часов в кинотеатре. А в это время вам запрещено выходить из дома.
— Во-первых, это чистейшая ложь. Я ни разу не покидал свой дом после двадцати двух часов. Во-вторых, если это и так, то почему этот ваш сотрудник, знавший меня, меня не задержал? Почему мне вообще об этом факте, если он и был, сообщили только сейчас?
— Сотрудник допустил ошибку и будет за это наказан.
— Правильно, по анекдоту: сержант по ошибке нажал не ту кнопку — Голландии и Бельгии не стало. А сержант получил выговор.
— Можете обжаловать прокурору…
— …это ваше право, — закончил я вместо него. — Вы это хотели сказать?
— Да.
— Я могу уйти?
— Да, можете. Завтра зайдите, вам под расписку объявят о продлении надзора.
Шел я домой злой, как собака.
Переодевшись, я решил пойти на почту и позвонить в Москву и родителям в Джамбул[39], — огорчить их тем, что остаюсь в Чуне еще на неопределенное время, чтобы они не ждали меня.
По дороге на почту меня встретил милицейский газик. Беневский, сидевший рядом с шофером, открыл дверцу и пригласил ехать с ними в РОВД.
— К кому и зачем?
— К начальнику, по поводу надзора вашего!
— Еще и часа не прошло, как я оттуда. Не терпится до завтра подождать?
Я считал, что меня торопят расписаться за продление надзора. Меня ввели в тот же кабинет и к тому же заму, где я был час назад.
Молча сел я на стул. Стал ждать. Говорить что-либо, спорить, спрашивать было так же противно, как и смотреть на равнодушную физиономию капитана.
— Мы пересмотрели наше решение о надзоре над вами, и решено надзор…
— Слышал это от вас, час назад тут же, на этом месте.
Я даже не разобрал смысл фразы, не осмыслил ее всю, а только отреагировал на равнодушный тон капитана.
— Надзор с вас снимается, — закончил он так же равнодушно.
Это меня возмутило. Казалось бы, радуйся, дурень, и чеши подальше, пока в третий раз не передумали.
— Вы ж мне час назад объявили совсем обратное! — взъярился я на капитана.
— Вы недовольны? — Тупое равнодушие чуть осветилось чем-то вроде улыбки.