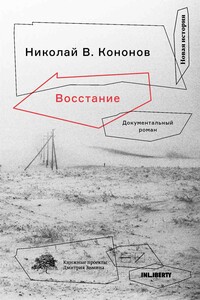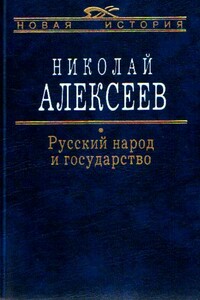И еще мне запомнился случай из нашего пребывания у Литвиновых. Как и у всех тут, у них была своя маленькая банька. Она же служила хозяйке и прачечной.
И вот я, как имевший практику топки печей, решил услужить хозяевам. Пока Павел был на работе, я нарубил дров и решил «как следует» протопить баню.
Я действительно натопил баню так, что внутри у вошедшего трещали уши. Литвиновская баня, поди, не знала такой жары. И все бы ничего, но я не учел одного обстоятельства: на улице минус сорок, а в бане адская жара. А так как окна в бане одинарные, то от такой разницы температур все стекла в них полопались. Стены баньки были старые, плохо проконопаченные, тепло и пар валили из нее во все щели и в полопавшиеся стекла. Баня с улицы парила, как перегретый паровой котел, прохудившийся в десятке мест.
Мне почему-то хорошо запомнился именно этот эпизод нашего пребывания в Усуглях. А что запомнилось накрепко из нашей встречи вам, милое семейство?
И вспоминаете ли вообще что-нибудь об этой нашей встрече, отделенные от нас теперь уже океаном?
Но вот и время нам собираться в путь, обратно в Чуну. Сколько переговорено, обсуждено, договорено, но до последнего часа не иссякал поток тем и вопросов. Расставаясь, мы ощущали, что не обо всем переговорили, не все сказали, чем-то забыли поделиться.
Я смотрел на остающихся, и эта унылость и безжизненность огромного пространства способствовали появлению у меня ощущения, которое испытывает уезжающий со свидания в лагере или тюрьме друг или родственник. Мы уезжаем, улетаем, а они остаются в этой дыре…
На обратном пути мы не раз ловили на себе взгляды преследующих нас стукачей. С нас не спускали глаз. Да мы и не ждали другого. Такова наша действительность.
И вот мы в Чуне. Я сдал в милицию свой маршрутный лист со всеми отметками, и мы стали готовиться к отъезду Ларисы в Москву.
От одного сознания, что после ее отъезда я останусь совсем один в Чуне, мне становилось грустно.
Через пару месяцев у меня кончался надзор, но даже на два месяца не хотелось оставаться одному. Хотя у меня здесь и были уже друзья из местных семейств, но они достались мне, так сказать, по наследству от Ларисы. Это были хорошие семьи, добрые люди, но, как и все новые знакомства, они не могли заменить старых друзей.
Примерно за неделю до окончания срока надзора прихожу я домой на обед (столовой тогда еще в ДОКе не было) с первой смены в полдень и вижу: взломан замок в двери, ведущей из сеней в дом. Тут же у дверей валяются стамеска и молоток — мой инструмент, который я обычно хранил в сенях. Ими-то и вскрыл кто-то дверь.
Я не стал ни до чего дотрагиваться руками, дверь открыл, вообще не берясь за ручку.
Войдя в дом, я осторожно стал выяснять, что же украдено, стараясь меньше ходить, ничего не брать в руки и не переставлять.
Кража была налицо: забрали «Эрику» — новенькую пишущую машинку, подарок друзей, обошедшийся им в двести пятьдесят рублей. Исчезли все мои рукописи — черновики, написанные от руки или отпечатанные на машинке. С книжной полки не исчезло ничего. Но под тахтой у меня в комнате лежал чемодан, и там среди белья хранились книги: два томика «Ракового корпуса», моя книжка «Мои показания», а на самом дне его лежала куча фотографий.
Я перебрал фотографии и обнаружил, что исчез портрет П.Г. Григоренко, где он снят в полном парадном мундире генерала и при наградах.
Нетронутыми оказались все вещи, в том числе и только что полученная из-за границы посылка. Наконец, не тронули деньги, которые я, уходя на работу, вынул из кармана и оставил на самом виду на столе. Грабители были очень деликатны: машинописные черновики, которые я хранил в специальной папке, были вынуты из папки и похищены. Но сама папка оставлена, и ее даже снова завязали на тесемочки.
Я, не запирая уже дверь, кинулся в милицию. Меня попросили написать подробное заявление о случившемся и перечислить, что похищено.
Все это время я общался с лейтенантом Беневским.
Мне велели идти домой и ждать: приедет милиция и будет на месте разбираться.
Я прождал часов до шести вечера, сидя в доме и ни к чему не прикасаясь, чтобы следствию было легче работать.