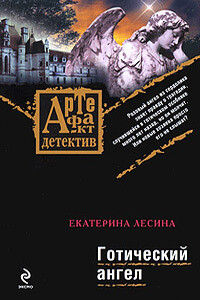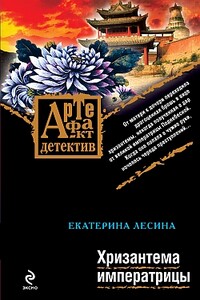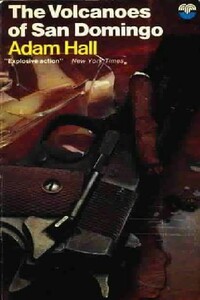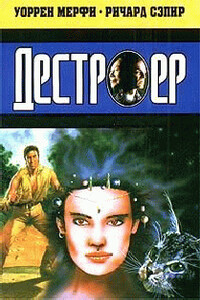А свекровь, змеюка подколодная, знай шипела: мол, ошиблась, невестку выбирая. Понадеялась она, что справная девка удержит Петра от запретных удовольствий Немецкой слободы. Евдокия же не сумела. И с детьми неладная… была б здорова, то и младенчики живы остались бы. Ладно, хоть наследника принесла, все не пустоцвет.
Сколько она кровушки ее попила, сколько злобы поистратила на Евдокиюшку, сколько слез у нее вызвала пролитых… и как померла все ж, — вот радости-то было! — так разве ж дали ей вздохнуть свободно? Разозлился Петр безмерно, когда жена его горя не выказала, решила, что будет жить теперь, как истинной царице положено… ох и разозлился. Евдокию и сейчас передергивало, стоило вспомнить, как побледнело, закаменело его лицо, как отшатнулся он и ее оттолкнул…
Снова ушел, на сей раз — надолго.
Она пыталась его вернуть, письма писала, пусть и давалась ей с трудом грамота, но сидела, скрипела пером, выводя заумные словеса. И себя блюла, как полагалось доброй супруге. Только разве ж ему такие нужны? Девок ему подавай — веселых, доступных… не человек — кобель, которого только помани, и он кинется следом. Доходили до Евдокии всякие слухи.
И про полюбовниц.
И про то, что все чаще царь заговаривал о том, будто не нужна ему жена.
И про то, что уже отписывали за него по монастырям, испрашивая согласия на то, чтобы приняли царицу в постриг.
И про то, что мысли эти черные нашептывала ему гадюка кукуйская, которую царицей величали.
— Анна, — прошипела Евдокия, сжимая пухлые кулачки. — Анна…
Монсиха, дочка купца, тварь, доброго словечка не заслуживающая! Одурманила, обвела наивного Петрушу, привязала к юбке своей ведьмовством.
Будь проклята она…
— О чем печалишься, царица-матушка? — спросила старушка, из тех, которых при Евдокии множество было. Она, по примеру свекрови, спешила окружить себя набожными людьми. Пусть видит народ, что привечает достойных царица. А заодно и самой веселее, старушки-то — не девки молодые, знают, как беседу вести, историев всяких опять же про земли чужедальние, про чудеса, которые в мире случаются, про то, как сон истолковать или примету особую. И душеньку утешат.
— Томно мне, — Евдокия поднялась.
Раздобрела она за последние годы, прибавила в теле, но только похорошела от этого.
— Сядь, — велела она, и старушка клубочком вкатилась в светлицу, села на полу. — Рассказывай, что слыхать…
Только они ей и остались — богомолицы, праведницы, светлые люди.
Родня-то, прежде крутившаяся у ног Евдокии, будто стая голодная, вдруг поразбежалась, поняла, что с опальною царицей водиться — себе дороже. Отец и то заглядывает редко, и братья ее позабыли.
— Царь-то воротился, — громким шепотом сказала старушка, засовывая за щеку сушеное яблоко. — И сразу на Кукуй отправился.
Уже не больно… почти не больно, только в груди сердце заледенело.
— И там с Монсихой, — чтоб волосья ее повылазили, глазья полопались, чтоб кожа счернела, как у маврихи, — там три дня провел.
А Евдокии и письмишка захудалого не написал.
— Уехал довольный… не печалься, царица-матушка, жди! Господь-то Он все видит, и отойдут гадюке твои слезы…
— Что еще говорят?
— Что опять ходил он на турок и с победой вернулся… — Старушка покосилась, пытаясь понять, любо ли царице слушать про победы ее постылого супруга. — Корабли всю зиму строили. Пушки делали. Люд сгоняли. И встал царь во главе войска преогромного. Задрожали бусурманы, куда ни глянут — везде люд православный…
Голос ее звучал напевно, убаюкивая, но и сквозь полудрему грызла Евдокию старая обида. Выходит, что удача вновь повернулась к мужу ликом, и не столь уж никчемен он. Бояре-то Петра недолюбливают, шепчутся, что, мол, неспокойный, нехороший царь.
И пусть бы ум бабий коротким звали, но слышалось Евдокии в этих речах особое: скинуть Петра, самого услать — не то в монастырь, а не то и… вовсе, а на царение Алексеюшку любого, сыночка ее дорогого, поставить. Пусть и понимала Евдокия, что самой ей при власти не быть, но и не стремилась она к тому. Батюшка есть, братья, другие люди мудрые. Они бы царевича наставляли, а уж Евдокии почет бы оказывали, такой, которого она заслужила.