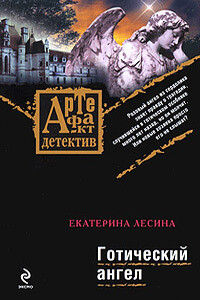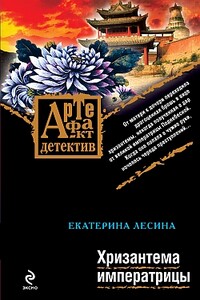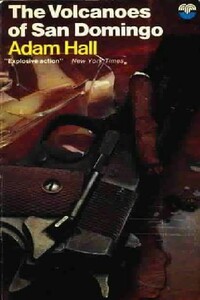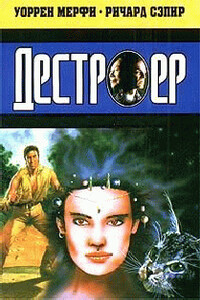Засела мысль в голове, застучала в висках молоточками.
— Зови, — велела Евдокия, преодолевая последний страх. — Зови немедля!
Чернокнижница оказалась женщиной нестарой, с темным носатым лицом и бровями, сросшимися в одну линию. Она шла, прихрамывая на левую ногу, и руку иссушенную, выкрученную, будто старая ветка, прижимала к груди.
— Здраве будь, матушка, — сказала чернокнижница, кланяясь до самого пола. — Поведали мне о твоем горе. Помогу. И не бойся, не на тебя сей грех ляжет. Завтра сходи к заутрене да щедрую милостыню раздай, пусть молятся за тебя людишки. Тем и очистишься.
— А ты?
— А я… я уж как-нибудь. — Узкие губы сжались в линию. — Сядь на лавку, матушка…
Евдокия села, и давешняя старушка, пристроившись у нее в ногах, принялась растирать ладони царицы, приговаривая:
— Все ради тебя, ради сыночка твоего… Господь, Он правду видит…
Чернокнижница доставала из сумы самые разные предметы: чашу, будто бы серебряную, но кривобокую. Склянки, мешочки, черные свечи, небось из человечьего жира топленные… запахло сушеными травами.
— Не думай обо мне, матушка, — сказала она с насмешкой, — о ней думай, о разлучнице…
Пошла она вокруг стола, плеснула в чашу из одной склянки, из другой… сыпанула щепоть белого порошка, и взвился дым.
— Думай, думай…
Думала Евдокия, вспоминая обиды, собирая одну за другой, словно нищенка — копеечки. И вот уже встало перед ее глазами лицо Монсихи: белое, бледное, точно блин недопеченный. Смотрела царица в глаза ее бесстыжие, и руки сами тянулись выцарапать их.
Звучал в ушах низкий голос чернокнижницы.
И вот встрепенулись огоньки черных свечей, завоняло…
— Руку…
Будто во сне, не смея не подчиниться, протянула Евдокия руку и вздрогнула от быстрой боли: проколола чернокнижница палец острою булавкой и подхватила капельку крови в чашу.
— Так оно верней…
Вновь заохала, захлопотала старушка, но Евдокия отмахнулась от нее. Ненависть, лютая злоба, доселе ей неведомая, поднялась в душе ее.
Пусть умрет!
Пусть мучается, как мучилась сама Евдокия!
Пусть проклята будет!
— Правильно, — шептала чернокнижница, — говори… говори, чего с ней сделать хочешь…
— Пусть плачет, пока не поблекнут ее глаза… пусть волосы рвет, пока не останется ни волосочка… пусть зубы ейные выпадут… а груди иссохнут. Кожа станет темной и гнилой… Пусть отвернется от нее царь, увидав, до чего мерзка она!
Сказала, выдохнула — и сомлела.
А когда в себя пришла, оказалось, что нет больше в тереме чернокнижницы, ушла.
Да и была ли она?..
— Лежи, лежи, матушка, — затрепетала старушка, подавая ей воды напиться. — Успокой свою душеньку.
— Все… получилось?
— Не бывать Монсихе царицей, да только…
— Говори!
— Женщина эта, она лгать не станет… и сейчас денег ни копеечки не взяла. Сказала только, что бережет Монсиху сила особая.
Неужто сам Господь волею своей разрушил наговор?
— …не Божия, нет, — поспешила успокоить старушка взволнованную царицу, — а сила любви твоего супруга… Делал он ей подарки?
— Делал.
Дорогие, не чета тем, что Евдокии доставались. Да и то, в последние годы Петр и вовсе не вспоминал о Богом даденной жене.
— Не деньгами тот дар измеряется, особый он, отличный от прочих. В нем — любовь твоего мужа спрятана. Коль выпустит Монсиха энтот дар из рук своих загребущих, так и сгинет. А удержит — жива останется.
Задумалась Евдокия, но, утомленная колдовством, собственной ненавистью, вдруг поняла, что бессильна против соперницы, да и то… уйдет Монсиха, и кто на ее месте появится?
Другая?
Третья?
Или многие, да сразу. Неужто вернется Петр к Евдокии? Ой, вряд ли…
— А еще, — старушка чуяла перемену в царице-матушке, — сказала эта женщина, чтоб ты не спешила на судьбу сетовать. Что будет тебе тяжко, да… все тяготы Господь по любви к чадам своим на них насылает. И пройдешь ты свои и обретешь счастие…
О счастье Евдокия не помышляла, какое уж тут счастье, когда жизнь, почитай, закончена? И знаком отослала она старушку, сама же, опустившись на перины, долго думала обо всем, что случилось в короткой ее жизни. Отошли обиды, исчезла злость, вот только беспокойство за сына, столь разительно непохожего на Петра, осталось. Какова будет его судьба?..