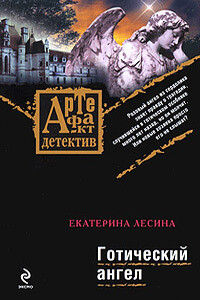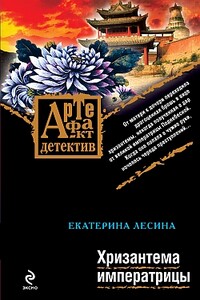— Ты гляди, — матушка погрозила ему толстым пальцем. — Баба — бабой, но голову не теряй! Где ж это видано, чтоб полюбовнице больше, чем жене законной, Богом данной, доставалось? Да еще и немка… может, приворожила она тебя?
Глазами синими.
Волосами темными, которые и свои-то, без париков, хороши были. Телом сдобным, мягким, податливым. Смехом живым и голосом звонким.
Бесстыдством, что было ей к лицу, как и платья ее иноземные, легкие, соблазнительные.
Беседами неторопливыми, по местному обычаю, однако лишенными того словесного сора, которым пересыпаны были боярские речи. И рядом с Анной ему думалось легче.
А виделось — иначе.
Многое, ох, многое из того, о чем размышлял Петр, пришлось бы матушке не по нраву. Но разве не видела она сама, сколь сильно нужны перемены?
— Не давай ей волю, — тяжко охнув, Наталья Кирилловна присела на стул. — Это все Лефортовы штучки… голову он тебе морочит, а ты и рад.
Слушал Петр матушку, да не слышал.
Нет, к жене он заглянул и порадовался, когда вспыхнули глаза Евдокии, лишь она его завидела. На шею кинулась, с причитаниями, со слезами. И правда, ненадолго устыдился Петр, что позабыл ее. А наутро тесно ему стало в тереме, наполненном слугами, служанками, няньками, бабками-шептуньями…
Смотрят, крестятся за спиной, ладан жгут безмерно, наполняя и без того душный терем вонью. И Евдокия ходит, важная, что утка, опять на сносях, обеими руками за живот держится, хотя и невелик он еще. А все вокруг ей поклоны бьют, будто царице. Наследник же мал, криклив и страшен, хоть ему уже с полгода исполнилось.
Уехать?
Уедет. И полетят ему вслед письма жалобные.
«Здравствуй, свет мой, на множество лет. Просим милости, пожалуй, государь, буди к нам, не замешкав. А я при милости матушкиной жива. Женишка твоя Дунька челом бьет» [1].
Словеса окружали, затягивали в омут вечного сонного своего существования. Нет! Прочь отсюдова, прочь… недалеко Немецкая слобода. И Анхен, Аннушка, которая ждет его с нетерпением, пусть и поостережется его показывать.
Горда она не в меру, будто и не дочка виноторговца, но самая что ни на есть графиня! И держать себя умеет. И порою глянет так, что сердце Петра страх сковывает. А ну как разлюбила?
Сказать бы кому — да только посмеются. Вон Алексашка всецело уверен, что Монсиха — иначе он Анну и не называет — весьма превеликую выгоду имеет. Разве не назначил Петр ей пансион в семьсот рублей? Разве не подарил свой портрет, алмазами отделанный, за который цельную тысячу уплатить пришлось? И до сих пор страшно было, как это он решился с этакими деньжищами расстаться за-ради бабской прихоти… но нет, все не то.
И, терзаясь смутными желаниями — не в силах были их удовлетворить случайные связи, — Петр вдруг понял, какой подарок он ей должен сделать. Вот только вновь представилась ему матушка, качавшая головой с укоризною: совсем ты, сынок, разум потерял! Разве ж царское это дело?
Царское.
Шкатулку он делал долго, своими руками, отчего-то ему казалось, что именно так будет правильно. Вот с механизмом пришлось повозиться, уж больно хитер был, да и недоставало Петру ловкости, сноровки в том, чтобы отладить его как следует. Благо, нашелся мастер.
Получилось хорошо.
И шкатулку Петр вручил ей самолично. Анна приняла подарок, и если и была удивлена, то виду не подала.
— Что это? — спросила она и, не дожидаясь ответа, провернула в замке ключ. Крышка приподнялась, и Анна увидела чудесную картину. Зеркало-озеро, лебеди и лодочка с фарфоровой, в полмизинчика, девушкой.
— Надо же… — голос ее дрогнул. — Я не думала, что ты помнишь… я тогда боялась упасть в воду. И лебеди, честно говоря, очень страшными выглядят… если вблизи посмотреть.
Рада ли она была такому подарку?
Или же прав Алексашка, что Анне нужны иные дары, куда богаче? Что она, как прочие немки, только и умеет — выгоду свою блюсти. Впрочем, разве сам Алексашка не таков? Может, отсюдова и ревность его непонятная?
Этим вечером Анна была задумчива, рассеянна и ни о чем Петра не просила. Блуждающий взгляд ее то и дело останавливался на Петре, но тотчас Анна спохватывалась, начинала улыбаться, говорить о чем-то… и он поддерживал беседу.