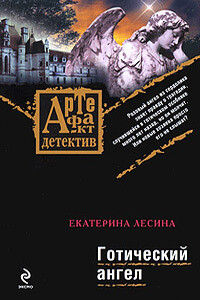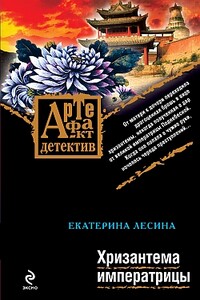— Я даже сомневаюсь, существовала ли она. Понимаете, такая… неординарная вещь появляется вдруг, фактически из ниоткуда. Оленька прежде не упоминала о шкатулке, даже когда пыталась защитить супруга… тогда еще — супруга. Она говорила, какой он добрый, ласковый, понимающий, талантливый. Что он вот-вот диссертацию защитит. Что на работе его ценят безумно, что… тысячу аргументов приводила, но ни слова о шкатулке, которая, как выяснилось, была семейной реликвией.
Действительно, престранное обстоятельство.
— И меня вдруг обвиняют в похищении этой самой реликвии, — Луиза Арнольдовна вздохнула. — Зачем? Денег у меня более чем достаточно. Я не коллекционер-фанатик. И не стремлюсь позолотить свои родовые корни. Меня устраивает собственное пролетарское происхождение, а все эти… игрища вокруг истории кажутся мне смешными.
Но Перевертень был уверен, что шкатулка осталась у Оленьки.
Вернее, о чем именно думал Перевертень, узнать не получится уже. По словам Светланы, отец ее был бессребреником и личностью, к жизни не приспособленной. А вот Луиза Арнольдовна утверждает совсем иное…
И кому верить?
Или — обеим?
Игнату случалось встречать в жизни людей, которые имели несколько лиц. Но вновь все упирается в шкатулку.
— Если вдруг надумаете навестить нас, буду рада, — Луиза Арнольдовна протянула ему визитку. — Только, умоляю, смените портного. Ваша манера одеваться… отвратительна!
Эта женщина влекла к себе Петра. Анна отличалась не только от смиренной, тихой Евдокии, которая жила, казалось бы, одним желанием — угодить мужу, — но и от всех прочих женщин, с которыми Петра сводила судьба. И он, зная за собой беспокойство, неспособность испытывать сколь бы то ни было продолжительную приязнь, ждал, когда утихнет это новое болезненное чувство в груди.
— Завел себе немку… — привычно ворчала матушка, качая головой.
Пожалуй, сейчас она, как никогда прежде, походила на престарелую медведиху, оправдывая данное ей в народе прозвище. И седина в волосах, которые нет-нет да и выбивались из-под черного платка, печалила Петра так же, как и внезапные приступы слабости, все чаще одолевавшие Наталью Кирилловну.
Она же, упрямая от рождения, не желала и слышать про докторов. Иноземцы, мол, что от них хорошего? А травяные отвары, которые подавали ей от сердечной слабости, не особо-то помогали.
— Живешь беззаконно… людей бы постыдился! Жену вон позабыл. А она тебе сына родила. Съездил бы, проведал, порадовал ее…
Наталья Кирилловна зудела привычно, но не зло.
— А то все на Кукуе и на Кукуе… — Она вдруг обожгла Петра взглядом черных глаз. — Что, так хороша немка, что забыть ее не можешь? Прежде-то небось ты к одной юбке не привязывался…
Она верно его укорила: матушка, которая, несмотря на всю любовь к Петру, видела многие его недостатки и мирилась с ними. Охоч был Петр до женщин, до того охоч, что порою не в силах был управиться со своими порывами. Сколько раз случалось ему отвлекаться из-за прехорошенького личика, бросать все, силясь унять зуд в чреслах. Он же был столь силен, что не хватало воли, выдержки, чтобы приличия соблюсти, ночи дождавшись.
И, отпуская жертву — впрочем, Петр вовсе не полагал женщин, которых он одаривал пылкой и скоротечной любовью своей, жертвами, — он зачастую не помнил и лица. Имен-то и вовсе не спрашивал.
Но Анна… Анна — иное дело.
Она была хороша… но разве в этом суть? Красавиц много, но лишь одна заставляла его сердце биться скорее, и оно, утомленное вынужденной разлукой, влекло его на Кукуй.
Что до жены, то… нет, Петр не забывал о ней вовсе, скорее уж скучно ему было с нею, с Евдокией, которая только и могла, что лить слезы, жаловаться да причитать. Петра раздражали ее покорность и готовность услужить, ее робость, стыдливость и постоянные поминания Господа. В постели она была настолько же уныла, насколько и в жизни.
Зато сына любила искренне.
И молилась о нем, царевиче Алексее, и о Петре, и о матушке, которую, впрочем, недолюбливала. Хотя Петр и видел, что нелюбовь эта взаимна, и не понимал, отчего возникла она. Разве не сама Наталья Кирилловна жену ему подыскала? Чего уж теперь сердиться-то…