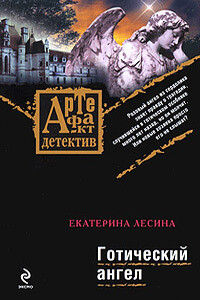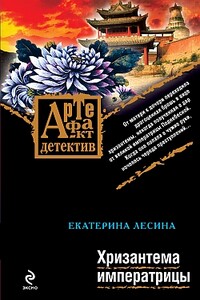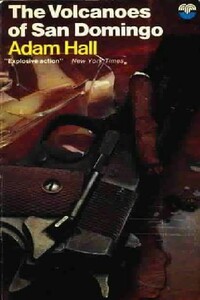— У меня и пистолет есть, — доверительно произнес он. — В бардачке.
Игрушечный, купленный когда-то в силу его поразительного сходства с настоящим. Ксюша задохнулась, не то от ужаса, не то от возмущения.
Интересно, а если ей другую работу предложить… она согласится?
— Ты… ты шутишь, — сказала она, глядя на него так, что становилось ясно: подобные шутки категорически ею не одобряются.
— Не сказать, чтобы совсем. Думаю, девушку уже задержали. Этот ваш… Дмитрий не похож на героя. И, как только он поймет, насколько глубоко влип, рот откроет. Так что доедай и поедем, пока самое интересное не пропустили.
Мороженое она доела быстро, все-таки женское любопытство — аргумент непреодолимой силы.
— Значит, все-таки… женщина, да? — спросила Ксюша уже в машине.
Женщина… все беды — от баб.
Все разрешилось в Шлиссельбурге.
Анна, не способная выбрать одного любовника, лишилась разом обоих. Случай, нелепица, пожалуй, из тех, которые происходят сами по себе, доказывая, что судьба хитра.
Она-то и поднесла чашу вина Кенигсеку, видать, не первую и даже не вторую. Хмельное веселье по случаю спуска на воду яхты закружило многих. И что за диво, если тонкий саксонец не сумел управиться с собою? Он силился пить наравне с царем и Алексашкой, который только и знай, что подначивал его.
И, захмелев окончательно, Кенигсек вышел к берегу, должно быть, надеялся, что свежий воздух избавит его от винной напасти. Голова ли у него закружилась? Либо же навалился на него медведем пьяный тяжелый сон? Либо некто, стоявший рядом, подтолкнул его в омут, но… не стало Кенигсека.
Хватились его не сразу, а хватившись, решили было, что сбежал саксонец. Однако тот же Меньшиков, — Анна после думала, уж не нарочно ли он все это затеял, силясь избавиться от ненавистной Монсихи, — кинул клич, что, дескать, потонул он…
…И правда, потонул, пусть и нашли тело не скоро, полгода минуло.
Алексашка велел вещи его обыскать и самолично в бумагах рылся, верно, зная, что именно он ищет. А отыскав, тотчас побежал к царю.
…Ох, права была Модеста, когда просила ее быть осторожной! Но разве влюбленному сердцу прикажешь? Оно рвалось в груди, выплескивая на бумагу нерастраченную нежность, ту самую, которой так Петру недоставало. Оно сочиняло письма — мягкие, преисполненные искренней любви. Да, угасла она, любовь, однако письма, проклятые письма, которые Анна умоляла вернуть, остались. И еще портрет ее, писанный нарочно для саксонца, в оправе драгоценного медальона.
Что сильнее разозлило Петра? Ее ли неверность или же то, что писала она Кенигсеку так, как никогда не писала самому Петру? Либо же не было и ярости, но ядовитый шепот Алексашки, который уже отыскал новую раскрасавицу, желая через нее единовластно царем управлять, сделал свое дело?
Все получилось именно так, как не единожды представляла себе Анна.
Петр воротился в Немецкую слободу, к дому ее, но, увидев Анну, не поспешил ее обнять, смерил презрительным взглядом. Она же, вместо того чтобы припасть к его ногам, о милости умоляя, глянула дерзко, с вызовом.
— Дура! — крикнул Петр.
И Анна лишь плечиком повела: дура. Она и сама это поняла, да поздно.
Жалела? Не о любви. О себе, некогда на уговоры поддавшейся.
О той Анне, которой она могла бы быть.
О жизни своей непрожитой.
Спокойно приняла Анна известие о том, что ей и сестрице ее, про которую Петр знал, будто помогала она тайным встречам любовников, надлежит безвыездно оставаться в доме.
Надолго ли?
Модеста, наивная, верила, что вскоре гнев царя поутихнет. Как знать, быть может, и случилось бы так, когда б не Алексашка, подсунувший царю смуглянку Скавронскую. Та была молода и хороша собой, живая, яркая… как Анна некогда.
И Анна с жалостью думала об этой женщине, предвидя для нее повторения собственной нелегкой дороги. В доме стало тихо. Сгинули друзья. Исчезли просители. И даже тени из снов отступили от нее, видно, ушли к Скавронской. И правильно, пусть они от нее и требуют милостей.
Пожалуй, эти дни, преисполненные тихой печали, были счастливыми, как счастлива бывает тихая ранняя осень. Где-то там, за каменными стенами дома, который больше Анне не принадлежал, как и не принадлежали ей и те, дареные, дворы, и пансион, и многое иное, шла своя жизнь. И Модеста вздыхала о том, что она вынуждена оставаться взаперти…