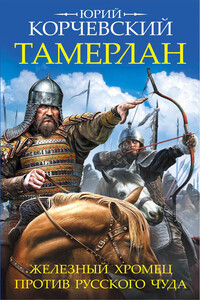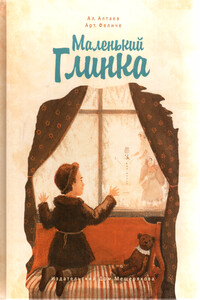Генрих вошел в дом вслед за высокой, тощей фигурой дяди.
Кухня, служившая столовой, была полна света и жара. Ярко пылал очаг. Лица людей, сидевших к нему близко, были покрыты потом. Над очагом шипел и румянился свиной окорок. Толстая стряпуха в красном домотканом платье поворачивала вертел, и сало крупными каплями стекало в подставленное глиняное блюдо.
— Эй, Марта!.. — смеялся, сидя за кружкой пива в кругу товарищей, рослый подмастерье. — Ты как сам сатана в адском пекле!..
— Смотри не поджарь и себя вместе со свининой, — поддержал его сосед.
Отирая лоб передником и отдуваясь, Марта спокойно отозвалась:
— А ты приходи сюда не зубы скалить да дешевенькое пивцо попивать, а доброго жаркого попробовать. Болтливый язык разом прикусишь!..
Проходивший мимо хозяин с гордостью обратился к сидевшим за отдельным столом купцам:
— «Золотой вепрь» недаром по всей округе славится окороками.
— Что верно, то верно! — озорно подтвердил все тот же рослый подмастерье и показал на широкие штаны хозяина: — Сала здесь хоть отбавляй!
Дружный смех товарищей заглушил вольную шутку.
— Лучше всякой вывески!..
Пропустив мимо ушей насмешку, хозяин пригласил ван Гааля с Генрихом за свободный стол.
На широкой скамье с резными крестообразными ножками можно было хорошо отдохнуть. Выстроившиеся на прилавке большие фаянсовые кружки напоминали о знаменитом «Петермане» — особом сорте пива, чудодейственно утолявшем жажду. В парном воздухе плавали возбуждающие аппетит запахи. Генрих набросился на еду. Мальчик-слуга с задорным курносым лицом едва успевал подавать ему. Ван Гааль резал не спеша поданную свинину и держался, как всегда, прямо и важно.
Генрих осмотрелся. Комната была большая, с высоким, уходящим в темноту потолком. С деревянных стропил спускались гирлянды золотистого лука, белых головок чеснока и пучков сухих трав. Над прилавком, поближе к хозяйскому ножу, висели тяжелый копченый окорок и связка колбас. На полу, на обитой кожей подставке, стояла огромная пивная бочка. Из вороха соломы в корзине выглядывали запечатанные цветным воском горлышки винных бутылок. Крутая лестница с перилами вела во второй этаж.
За ближним столом двое монахов в теплых дорожных сутанах, подпоясанных льняными жгутами, попивали из кругленького кувшинчика сладкую мальвазию. Лица их и выбритые на макушках, по уставу католической церкви, кружки тонзур лоснились, точно смазанные жиром.
Рядом сильно подвыпивший человек скинул нарядный когда-то плащ на ценном, но вылезшем уже меху и угощал сухопарого бакалавра[1] в темном кафтане и оловянных очках.
За третьим столом трое купцов, не обращая ни на кого внимания, деловито проверяли какие-то счета, качали сокрушенно головами и почесывали в затылках.
А у самого очага компания веселых ремесленников с расстегнутыми воротами рубах смеялась, не переставая поддразнивать добродушную стряпуху.
Человек, угощавший бакалавра, повернулся с жестом приветствия к ван Гаалям.
— Я в восторге, благородные рыцари, — заговорил он, — что вижу вас здесь, на постоялом дворе, куда судьба, по великой своей несправедливости, закинула и меня, природного дворянина. Общество людей равного происхождения облагораживает и смягчает удары злого рока…
Он с трудом поднялся и неверными шагами подошел к ван Гаалю. Бакалавр, как тень, следовал за ним.
— Вот, рекомендую: ученый муж, продавший душу черту. Но может быть использован и на богоугодное дело.
Ван Гааль нехотя поклонился.
— Вы меня поймете, — продолжал дворянин. — Вы, и никто другой здесь, клянусь гербом и шпагой! — Наклонившись к самому лицу старого воина, он таинственно зашептал: — Видите вы этих двух бездельников, — дворянин показал исподтишка на монахов, — с тугими животами и такими же тугими мешками, где они прячут свои денежки?.. Сей ученый муж напишет по моему указанию докладную бумагу, а я вручу ее милостивому государю нашему. В сей бумаге будет сказано…
Вошел Микэль, потирая озябшие руки, и сел поодаль, на край скамейки. Генрих пододвинул ему стакан с вином:
— Пей, старина, — сразу согреешься.
— Что же будет сказано в бумаге? — спросил мрачно ван Гааль.