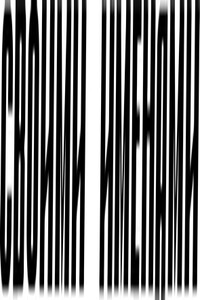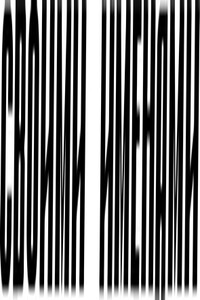Цикл II: 1907–1939 гг.
Этими соглашениями Россия открывает в череде своих стратегических циклов новый ход А. В противостоянии двух западноевропейских блоков она выступает существенным привходящим фактором, привязанным к балтийско-балкано-черноморскому пороговому пространству Европы, и в этом качестве обретает надежду решить «Восточный» вопрос на своих условиях, вплоть до признания союзниками по соглашениям 1915–1916 гг. права Империи не только на Проливы, вместе со Стамбулом-Константинополем, но и на фактическое обращение всего Черного моря во внутреннее российское море [ИВПР 1997, 474]. Как и сто лет назад замах на большие балтийско-черноморские решения увязывается с перипетиями союзнического участия Петербурга-Петрограда в европейском конфликтном сюжете. И опять своим «присутствием в Европе» Россия напрашивается на удар с запада, а ее разворот во входном междуморье великого полуострова-субконтинента, ее бросок навстречу разделенному в борьбе западному миру лишает ее подстраховки от этого удара (ср. [Цымбурский 1995, 243]).
На этот раз ход В протекает намного катастрофичнее из-за политического коллапса Петербургской монархии; мечты Наполеона в 1812 г., видевшего «Россию поверженной, царя примирившимся или погибшим при каком-нибудь дворцовом заговоре» [Тарле 1991, 255], как бы материализуются в 1917–1918 гг. Тем интереснее то, что восстанавливаемая циклическая динамика российской внешней политики и геостратегии не прервалась с Октябрьским переворотом. Можно показать, что в XX в. она пронизывает всю эпоху большевистской государственности и, похоже, переходит в послебольшевистский период, – по крайней мере, охватывая его начало.
Собственно ходу во втором цикле соответствуют события 1917-1918 гг., когда Россия, уже потеряв Польшу, часть Прибалтики, Белоруссии и Украины, на попытку большевиков «без аннексий и контрибуций» выскользнуть из войны, получает со стороны Запада сперва Брестский мир, а затем и интервенцию Антанты, не желавшей допустить превращения бывших земель Империи в германскую сырьевую и продовольственную базу. На этот раз уже не «хозяин Европы» пытался сокрушить русских как сохраняющуюся надежду своих слабеющих европейских недругов, но два мощных западных стана переносят в Россию свою схватку, обоюдно обретая здесь, как уже говорилось, сателлитов и группы влияния. Напомню умиротворительную линию большевиков после Брестского мира по отношению к Германии и левоэсеровский мятеж, начавшийся с убийства германского посла, а по другую сторону фронта гражданской войны – раскол белого движения в 1918 г. на проантантовские и прогерманские группы. Но этот ход был пресечен революциями в странах Центрального блока и самоопределением восточноевропейских народов, восстановившим между Россией и Западной Европой буферный пояс, узаконенный Версальской системой на правах «санитарного кордона».
Как новый ход С можно расценить большевистско-коминтерновское стремление на рубеже 1910-х и 1920-х гг. под впечатлением от советских республик в Венгрии, Словакии и Баварии перенести революцию в Центрально-Восточную и в собственно Центральную, немецкоязычную Европу. Идейным оформлением этого стремления стал разделявшийся Л.Д. Троцким и рядом других большевистских вождей проект «социалистических Соединенных Штатов Европы». Авантюрные поползновения новообразованной Польши расшириться сразу во все стороны, за счет как советских земель, так и Германии, дали повод Москве, по словам Ленина, попытаться перейти «от оборонительного периода войны со всемирным империализмом к войне наступательной» [Ленин 1992, 16 и сл.]. Советизация Польши вставала как первая, промежуточная цель, достижением которой обеспечивался бы прорыв революции к рубежам «коренной» Западной Европы через еще не устоявшийся «санитарный кордон», создавалось бы территориальное связующее звено «между революцией Октябрьской и революцией западноевропейской» [Тухачевский 1992, 62 и сл.]. Этот порыв к границам Германии, взбудораженной версальским унижением [Ленин 1992. Троцкий 1990, 194], надежды вызвать «вспышку» в германских областях, когда они «соприкоснутся с вооруженным потоком революции» [Тухачевский 1992, 62], и тем самым перейти к созиданию Соединенных Штатов Европы – заставляют, как ни парадоксально, вспомнить споры по польскому вопросу на Венском конгрессе, где решение его в пользу России, тем самым врезавшейся в германское пространство, стало предпосылкой для выработки и провозглашения режима Священного Союза. Сегодняшние исследователи расценивают бросок 1920 г. на Варшаву как воплощение «революционной геополитики» [Михутина 1994. Зубачевский 1998], намеренной в перспективе «создать сплошное революционное поле, которое бы охватило… Советскую Россию, Польшу, Германию и Италию» [Улунян 1997, 42]. Очевидно, что такое поле в основном совпадало бы с полем имперской «ответственности» России на Западе при Николае I – при головокружительном различии идеологий, санкционировавших в первом и во втором стратегических циклах России ее геополитические «европейские максимумы». Не случайно евразийцы-эмигранты, нападая на советскую геостратегию тех лет, поспешили объявить, что «большевики под влиянием традиций старого русского империализма мечтают о русификации Европы, переименовывая, впрочем, русификацию в коммунизацию», и потому-де «выходят за пределы жизненных русских задач, как в свое время за эти пределы выходили Александр I и Николай I» [Савицкий 1997, 65]. Конец этого хода обозначен неудачами революций в Германии и в Болгарии в 1923 г., после чего советские руководители начинают уверяться в спаде европейской революционной волны и в стабилизации на Западе капитализма – по крайней мере, временной.