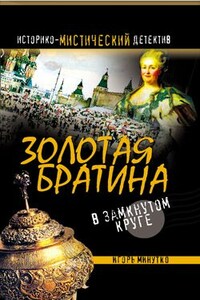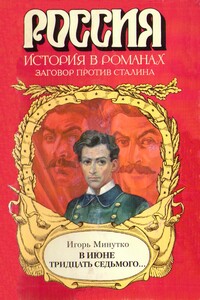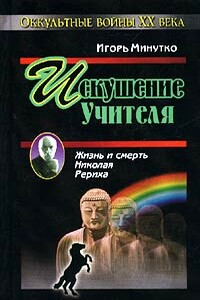— Типографские! Третий и четвертый вагоны! — слышит Федя уже знакомый голос.
И они бегут вдоль состава.
Мимо костров,
лошадей,
ящиков с патронами…
Мимо кучек людей…
Мимо песен и плачей…
Мимо разлук и надежд на встречи…
Уже виден паровоз, большой, жаркий, в красных флагах. Впервые Федя так близко видит паровоз. На третьей и четвертой теплушках написано мелом: «Отряд губ. типографии».
И Федя видит, что у вагонов стоят бабка Фрося, Любка-балаболка, Сашка-цыган из Задворного тупика и другие их соседи, и еще много людей, родных типографских рабочих. И Давид Семенович тут. И все они шатнулись им навстречу. Сразу смешались все, перепутались. Возгласы, плач, смех…
Федю обнимает Давид Семенович, и в глазах у него- так странно! — слезы. А отец быстро говорит:
— Так я прошу, Давид… Дашу не забывай.
— Ну зачем ты! Зачем лишние слова! — Давид Семенович стал суетливым, маленьким, и Феде почему-то жалко его.
— Ты навещай ее, как разрешат.
— Конечно, конечно… — Давид Семенович вздыхает порывисто. — Если бы не болезнь проклятая… С вами бы сейчас ехал!
Федю кто-то дергает за рукав. Смотрит — Любка-балаболка. Красивая, очень красивая Любка. Густые рыжие волосы из-под платка торчат, глаза глубокие, тревожные. Чаще забилось сердце Феди. Однако он зачем-то насупился.
— Чего тебе?
— Федь… — опускает Любка глаза.
— Ну?
— Значит, ты тоже едешь? — В Любкином голосе прямо раболепное уважение.
— Ну, еду. Чего тут особенного!
— Ты напишешь мне письмо?
Теплеет Федина душа. Конечно, напишет. Про все. Про фронт, про то, как он будет сражаться с белыми.
— А зачем? — спрашивает Федя.
— Так… -Любкины ресницы вздрагивают.
— Ладно.
— Правда, напишешь? — счастливо улыбается Любка.
— Правда. И еще знаешь что?
— Чиво?
— Ту мою книжку про разные чудесные страны возьми себе. На память.
— Вот спасибо, Федя! А это тебе. — Она протягивает ему вышитый кисет.
— Спасибо… — Федя смущенно мнется. — Только не курю я…
— Ничего. Ты в него паек ложи.
— Ага. Где ж ты такой взяла?
— У деда стащила!
— Небось побьет теперь?
— Не… убегу.
— Люба, ты еще, когда разрешат, мамку мою проведай.
— Конечно! Как разрешат, каждый день ходить буду. — Любка взглянула на Федю, и в ее глазах и тревога, и нежность, и еще что-то, от чего холодок скользнул по Фединому сердцу. — Федь…
— Ну?
— Ты осторожно там. Чтоб тебя не убили. Я тебя, Федя, ждать буду… — И потупила Любка глаза.
Так разговаривают они, а вокруг шум, сутолока, кто-то под гармошку лихо пляшет «русскую», кто-то плачет…
Вдруг рядом раздался оглушительный рев. Смотрят Федя и Любка-балаболка, а это соседский Андрюшка заливается. Понятно: маленький, пять лет всего. Однако Федя спросил строго:
— Ну? Чего ревешь?
— Ма-аму-у бабкина-а Фросина-а корова-а заб-рухала-а…
Видать, нет ничего страшнее в жизни для Андрюшки бодливой коровы бабки Фроси.
— Да вон твоя мамка! — Любка повернула Андрюшку к высокой женщине в цветастом платке. — Обезглазил?
Увидел Андрюшка свою мамку, бросился к ней и заревел еще громче.
Вдруг покатилось по перрону:
— Тише, товарищи! Будет говорить Иваныч!
— Тише! — эхом откликнулось несколько голосов.
— Будет говорить Иваныч!..
Затих перрон, только слышно, как отдувается паровоз и где-то лошади позванивают удилами.
Дядя Петя стоял на столе, вынесенном к вагонам, и, хотя далеко было от стола до отряда типографских рабочих, Федя ясно видел высокую фигуру дяди Пети, освещенную костром.
— …Враг уже отброшен от южных границ губернии,- летел над перроном голос дяди Пети. — Но он не оставил надежду захватить наш город. Пусть же знает Деникин: мы никогда не отдадим ему город оружейников!
— Не отдадим! — катилось над теплушками.
— Не отдадим!..
— …потому что здесь, на наших заводах, — красная кузница пролетарского оружия. Здесь куется победа над врагом!
Дядя Петя повернулся в сторону паровоза, и показалось Феде, что глаза его светятся живым огнем- костер отразился в них.
— Поклянемся же, товарищи, что не отступим ни на шаг!
— Клянемся!-пронеслось вдоль состава.
— Клянемся!-И вверх взметнулись винтовки, матово поблескивая штыками.
— Клянемся! — закричал Федя, и голос его сорвался от волнения.
— …Пусть изведает злобный классовый враг силу и ненависть пролетариата! -Дядя Петя на миг умолк, и стало слышно дыхание толпы, и паровоз отдувался вроде бы осторожнее, и по-прежнему позванивали удилами лошади. — Победа или смерть! — гневно и страстно крикнул он.