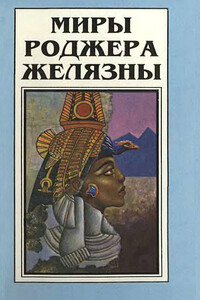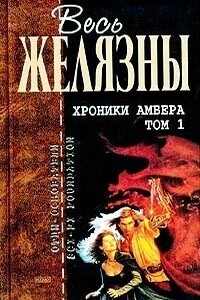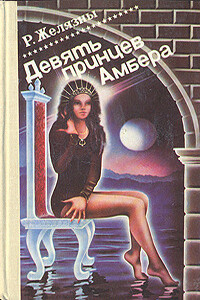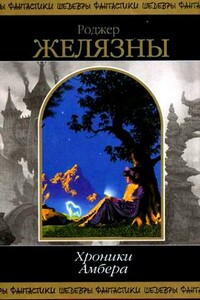Как-то вечером они ужинали в Новейшем периоде.
— При жизни у вас было имя? — осведомился он.
— Глория, — прошептала она. — А у вас?
— Смит. Джей.
— Что заставило вас пойти в статуи, Смит, если это не слишком нескромный вопрос?
— Вовсе нет, — ответил он с невидимой улыбкой. — Некоторые с рождения обречены на безвестность, другие добиваются ее упорными усилиями. Я принадлежу к последним. Будучи художником-неудачником и оставшись без цента в кармане, я решил стать памятником себе. Здесь тепло, а этажом ниже есть пища. Обстановка приятная, и меня никогда не разоблачат, потому что в музеях никто не смотрит на то, что стоит вокруг.
— Никто?
— Ни единая живая душа, как вы, несомненно, уже сами заметили. Детей притаскивают сюда силой против их воли, молодежь приходит пофлиртовать, а когда человек обретает способность смотреть на что-то, то он либо близорук, либо подвержен галлюцинациям, — сообщил он горько. — В первом случае он ничего не заметит. Во втором — никому не скажет. Парад проходит мимо.
— Но тогда зачем музеи?
— Дорогая моя! Такой вопрос в устах бывшей невесты истинного художника указывает, что связь ваша была лишь кратким…
— Право же! — перебила она. — Правильным будет лишь «помолвка»!
— Пусть так, — поправился он, — пусть помолвка. Как бы то ни было, музеи отражают прошлое, которое мертво, настоящее, ничего не замечающее, а также передают культурное наследие человечества еще не народившемуся будущему. В этом смысле они близки к храмам. В религиозном смысле.
— Такая мысль мне в голову не приходила, — произнесла она задумчиво. — И она прекрасна. Вам следовало бы стать учителем.
— Платят мало, но идея утешительная. Идем, пограбим холодильник еще раз.
Они грызли заключительные батончики мороженого и обсуждали Сраженного Ахилла, уютно расположившись под большой подвижной абстракцией, которая походила на заморенного голодом осьминога. Смит рассказывал ей о других своих великих замыслах и о мерзких критиках, злобных, с желчью в жилах вместо крови, которые рыщут по воскресным газетам и ненавидят жизнь. Она в ответ поведала ему о своих родителях, которые знали Арта и знали, почему он не должен ей нравиться, и об огромных богатствах своих родителей — лесоматериалы, недвижимость и нефть в равных долях.
Он в ответ погладил ее по плечу, а она в ответ заморгала и улыбнулась эллинистически.
— Знаете, — сказал он под конец, — день за днем, сидя на моем пьедестале, я часто думал: «Быть может, мой долг — вернуться и попытаться еще раз содрать катаракты с глаз обывателей. Быть может… Если бы я обрел материальную обеспеченность и спокойствие духа… Быть может, если бы я нашел единственную женщину… Но нет! Такой не существует.
— Продолжайте! Прошу вас, продолжайте! — вскричала она. — И я последние дни думала, что, быть может, другой художник оказался бы в силах залечить рану. Быть может, творец красоты сумел бы исцелить от яда одиночества… Если бы мы…
Но тут низенький безобразный человек в тоге громко откашлялся.
— Этого-то я и опасался! — объявил он.
Тощим, морщинистым, неопрятным был он — человек с изъязвленным желудком и увеличенной печенью. Он ткнул в них грозящим перстом.
— Этого-то я и боялся, — повторил он.
— К-к-кто вы? — спросила Глория.
— Кассий, — ответил он. — Кассий Фицмаллен, художественный критик, на покое, из далтоновской «Таймс». Вы сговорились переметнуться.
— А вам какое дело, если мы решили уйти? — спросил Смит, поигрывая полузащитниковскими мышцами Поверженного Гладиатора.
— Какое дело? Ваше дезертирство поставит под угрозу целый образ жизни. Уйдя, вы, без сомнения, станете художником или преподавателем в какой-нибудь художественной школе, и рано или поздно каким-нибудь словом, жестом, подмаргиванием либо иным неосознанным способом вы сообщите другим то, о чем всегда подозревали. Я не одну неделю слушал ваши разговоры. Вы теперь уже безусловно знаете, что именно сюда в конце концов приходят все художественные критики, чтобы остаток дней своих провести, потешаясь над тем, к чему всегда питали ненависть. Вот чем объясняется увеличение числа римских сенаторов за последние годы.