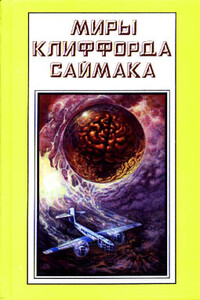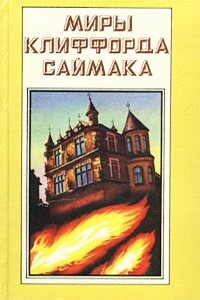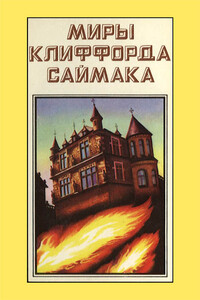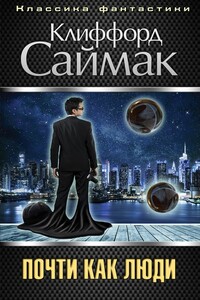— Она по-прежнему там. А что это, я не догадываюсь точно так же, как и прежде.
Женщина убрала оружие в кобуру. Засветив фонарик, Хортон вступил в здание первым.
Внутри было темно и пыльно. Вдоль стен торчала полуразвалившаяся мебель. Какая-то мелкая зверюшка пискнула, объятая ужасом, и метнулась через комнату, ускользнув смазанной тенью во тьму.
— Мышь, — предположил Хортон.
— По всей вероятности, нет, — спокойно ответила Элейн. — Мыши — это принадлежность Земли, по крайней мере так нас уверяют старые детские стишки. Например, такой: «Побежала мышка-мать, стала кошку в няньки звать…»2
— Выходит, детские стишки дожили до вашей эпохи?
— Некоторые дожили. Подозреваю, что далеко не все…
Перед ними была запертая дверь. Но едва Хортон толкнул ее рукой, она обрушилась за порог грудой хлама. Подняв фонарик, он осветил следующую комнату. И комната словно вспыхнула. Ослепительный золотой блеск ударил им в лица — они поневоле отступили на шаг-другой. Хортон опустил фонарик, потом стал медленно поднимать снова. Блеск появился опять, но на этот раз они сумели разобрать, что именно блестит. В центре комнаты, занимая ее почти целиком, стоял куб.
Отражение было все еще слишком ярким — пришлось снова опустить фонарик. Затем Хортон осторожно переступил порог. Теперь куб больше не отражал лучи, а, напротив, словно поглощал их, впитывал и рассеивал по всему своему объему. Казалось, что куб осветили изнутри.
В освещенном пространстве лежало, как бы ни на что не опираясь, некое существо. Существо — вот и все, что можно было сказать, более подробное описание не приходило в голову. Оно было огромным, заполняло собою куб почти без остатка, тело уходило за пределы видимости. На мгновение возникло ощущение глыбы, но не просто аморфной глыбы. В ней ощущалась жизнь, что-то в изгибе линий тела безотчетно подсказывало: глыба живая. То, что казалось головой, склонялось на то, что казалось грудью. А тело, все тело — но тело ли? — было покрыто замысловатым, будто выгравированным узором. Как рыцарские латы, мелькнула мысль, как драгоценный образчик кузнечного искусства.
Элейн, подойдя вплотную к Хортону, выдохнула восхищенно:
— Что за красота!
Хортон замер, парализованный удивлением пополам с испугом, но, наконец, выговорил:
— У него есть голова. Чертова бестия живая…
— Она не шевелится, — сказала Элейн. — А была бы живая, должна бы шевельнуться. Как только на нее упал свет, она бы шевельнулась.
— А может, спит?
— Не похоже, что спит.
— Она наверняка живая, — настаивал Хортон. — Вы ее чувствовали. Это и есть та странность, которую вы чувствовали. И вам по-прежнему непонятно, что это такое?
— Совершенно непонятно. Ни о чем подобном я никогда не слышала. Ни легенд, ни старых сказок. Вообще ничего. И оно такое красивое. Ужасное и одновременно красивое. Взгляните на эти изящные, сложные узоры. Это его одежда — нет, теперь я понимаю, что не одежда. Узоры на чешуе…
Хортон попытался хотя бы представить себе общие контуры тела, но потерпел неудачу. Раз за разом он начинал прослеживать какую-нибудь линию, и до поры все шло хорошо, но затем линия неизменно терялась, растворяясь в заполняющем куб золотом сиянии и путанице перевитых форм самого существа.
Тогда он попробовал подступиться к кубу на шаг ближе для более пристального осмотра — и его вдруг остановило. Остановила сама пустота. Не было совершенно ничего, что могло бы его застопорить, и все-таки он словно налетел на невидимую и неощущаемую стену. Нет, не на стену, поправил он себя. Память отчаянно забилась, стараясь подыскать сравнение, пригодное для такого случая. Но сравнение не отыскивалось, потому что остановила его сама пустота. Свободной рукой он ощупал все перед собой. Рука не обнаружила ничего, но продвинуться не смогла. Никакого физического ощущения, никакого препятствия, доступного чувствам. Будто, наконец-то сравнение пришло на ум, он натолкнулся на конец реальности и достиг точки, откуда нет дальнейшего пути. Будто некто прочертил линию и сказал: мир кончается здесь, никто и ничто не вправе превзойти сей предел. Однако, если это было так, что-то осталось недодуманным: ведь заглянуть за дозволенный предел он мог по-прежнему!