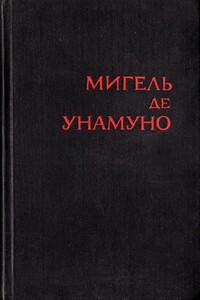Однажды вечером сорок девятого года, когда гости уже разошлись и супруги, как обычно, остались одни, пересчитывая вырученное за день, бедняжка Пепиньяси, запинаясь и краснея, сообщила своему Перу Антону[36] нечто такое, от чего сердце громко застучало у него в груди, и он со слезами на глазах обнял жену, воскликнув: «На все воля Божья!» В июне следующего года у них родился сын, которого назвали Игнасио,[37] и дон Паскуаль стал дядюшкой Паскуалем.
Первые месяцы Педро Антонио чувствовал себя совершенно растерянным, глядя на этого бедного, позднего малютку, которого любой сквозняк, любое чепуховое расстройство желудка, какая-нибудь невидимая и неосязаемая, невесть откуда взявшаяся хворь могли погубить в одночасье. Перед тем как идти спать, он склонялся над кроваткой малыша, чтобы услышать его дыхание.
Он часто брал сына на руки и, пристально глядя на него, говорил: «А хороший солдат мог бы из тебя выйти!.. Но, слава Богу, жизнь у нас теперь мирная… Ну-ка, ну-ка!..» Однако ему ни разу и в голову не пришло поцеловать малыша.
Воспитать сына он решил в простом и строгом обычае католической веры, на старый испанский лад, и воспитание это свелось к тому, что каждое утро и каждый вечер ребенок обязан был прикладываться к родительской руке и ни в коем случае не обращаться к родителям на «ты» – отвратительная привычка, порождение революции, как утверждал дядюшка Паскуаль, со своей стороны взявшийся внушить малолетнему племяннику священный страх перед Богом.
А это было и впрямь нужно, потому что наступали немыслимые времена, и Педро Антонио всерьез начинал задумываться о конце мира. Покушение священника Мерино на королеву и рассуждения по этому поводу дядюшки Паскуаля оставили глубокий след в душе кондитера, которому казалось, что он видит самого переодевшегося святым отцом Люцифера, тайком покидающего по ночам Незримую Юдоль, чтобы совращать мир с пути истинного.
В эти-то первые годы и сложились основные черты чистого и нетронутого духа Игнасио, а полученные в эти годы впечатления стали впоследствии сердцевиной его души. Поскольку родители весь день проводили в лавке, он почти не сидел дома и, как правило, приходил домой только ночевать.
Настоящим его домом была выходившая на рыночную площадь улица, вид с которой ограничивался окрестными горами. Старые и как бы раздавшиеся от старости дома, с деревянными балконами и несимметрично разбросанными проемами дверей и окон, дома, в облике которых, казалось, отпечатлелся характер населявших их семей, обступали узкую и длинную, затененную нависающими кровлями улицу. Неподалеку располагалось кладбище и церковь Сантьяго[38] с широким порталом, где в дождливые дни собиралась ребятня и звонкие голоса детей отражались от каменных сводов. Мрачноватая, на первый взгляд, сжатая тенями улица, похожая на туннель, перекрытый полоской серого по обыкновению неба, часто оживлялась пронзительными криками играющей ребятни. Да и для пешехода она представляла не такое уж унылое зрелище, поскольку многочисленные окна лавок пестрели всякой всячиной: тут были и береты, и кушаки, и подтяжки самых разных и ярких цветов, ярма и башмаки, и все это было развешано так, чтобы крестьяне могли хорошенько разглядеть и собственноручно потрогать любой товар. Здесь царил постоянный праздник, а наезжавшие в воскресные дни селяне толпами ходили по улице взад-вперед, присматриваясь и торгуясь, притворяясь, что уходят, чтобы потом вернуться и купить. Среди этих людей, нередко подшучивая над кем-нибудь из них, и рос Игнасио.
У мальчишек был свой, особый календарь развлечений, зависевший от сезона и от погоды: то это были водяные мельнички, которые они устраивали, перегораживая посреди мостовой бурлящий в дождливые дни поток; то – впечатляющее зрелище, когда, на восьмой день праздника Тела Господня,[39] трубачи городского оркестра в своих красных полукафтанах, стоя на балконах аюнтамьенто,[40] нарушали тишину угасающего дня протяжными и торжественными звуками.
Самым близким, самым неразлучным другом Игнасио в эти детские годы был Хуанито Арапа – сын дона Хуана Араны, совладельца компании «Братья Арана», либерала до мозга костей.