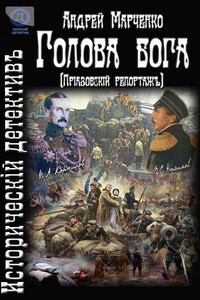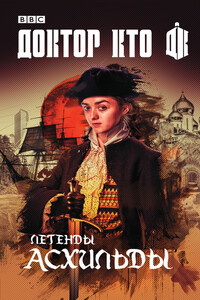Беги!
– Господа, – словно сквозь туман услышал он собственный голос, – тут, кажется, становится слишком людно. Не повторить бы нам то, что уже происходило…
– Что? Что вы… – начал кто-то удивленно.
Но в следующую секунду вдали послышался какой-то звук лопающихся шутих. Плотный, почти скомороший звук. Пых-пых-пых. Затем пауза, а затем снова, – пых, пых, пых. И странным образом среди дневного спокойствия и бездвижья раздался комариный писк.
– Ветер, что ли? Или… О господи! – прошептал Ильчев, глаза которого стали схожи с большущими пуговицами.
– Брысь с поляны! – заорал артиллерийский поручик и добавил, еще более повышая голос: – Быстрее, в бога душу мать! Сейчас накроет!
Все сорвались с мест и ринулись кто куда, лишь Славин вслушивался в комариное пение, которое усиливалось, становилось отчетливей. Время растянулось, стало гуттаперчевым, он наверняка бы так и остался сидеть, если бы не чья-то жесткая рука, ухватившая за шиворот и потащившая в сторону, под упавший древесный ствол. Ноги сопротивлялись, и сам он недоумевал, отчего нужно бежать, падать лицом в сухие листья, в перегной, в муравейник. А потом его качнуло огромной горячей волной. Раз-два-три, раз-два-три, словно закружило в вальсе вместе с листьями, с землей, с обломками кухонного стола и вырванными с корнями деревьями. Рядом пролетала чья-то фуражка, и небо оказалось вначале снизу, затем сбоку, и только потом вернулось на место. В ушах звенело, голова, словно дыня соком, наливалась изнутри болью. А затем он увидел собственные ладони – в крови, и перед глазами плясали красные пятна. Всё произошло быстро, налет уложился всего в минуту, но эта минута показалась кусочком вечности, в которой он едва-едва не остался.
– А, контузило, это ерунда! – бравадой прикрывая бледность лица, подошел Ильчев, отряхивая с брюк щепки и грязь.
– Вы как, прапорщик? – Совсем рядом двоился штабс-капитан, казавшийся седым волшебником оттого, что рядом приземлился разорванный мешок с мукой.
По всему выходило, именно штабс-капитан спас Славина, утащив в укрытие.
– Нормально. Только всё дрожит и в ушах шум. А еще вот, – он протянул перед собой ладонь, показывая кровь.
Подошедший Ильчев внимательно оглядел его, затем втянул воздух носом и расхохотался.
– Добавку принесло! Прямо в руки!
Метрах в двух нашелся чугунный казанок, из которого расплескало подливу к гуляшу, часть которой попала Славину на руки и на живот. Вслед за Ильчевым засмеялся штабс-капитан, потом сам Славин. Через минуту все собравшиеся на поляне люди хохотали, не пытаясь сдерживать судорожный смех, рвущийся откуда-то изнутри.
– Гуляш! – визжал по-детски Ильчев. – Мамочка, держите меня! Это гуляш!
Что в переводе означало только одно – мы живы. Любой смех на войне переводится именно так.
Повар с помощниками подбирали раскиданный взрывной волной инвентарь. От столовой осталась одна лавка, остальная импровизированная мебель была разбита.
И только артиллерийский поручик не смеялся со всеми, он внимательно оглядывал стволы деревьев, сходил влево, затем вправо с поляны, поковырял ножичком иву. А после счастливо выдохнул:
– Пронесло. Если бы на несколько шагов ближе и если бы не деревца, лежать нам всем и слушать «со святыми упокойтесь…» в могилках. Чуть-чуть комендоры прицел бы другой взяли – хана!
– Ну, что, с крещением вас, господин контрразведчик, теперь на своей шкуре прочувствовали, какие дела у нас творятся! – весело проговорил Красноруцкий.
– Да уж, прочувствовал, – ответил Славин, понемногу приходя в себя, – кстати, отныне я ваш должник.
– Это за что?
– Ну а кто меня за шиворот тащил под дерево? Не вы ли? Растерялся я. Впервые из пушек в меня во время обеда палят.
– Э-э, голубчик, – заглянув в глаза, протянул штабс-капитан. – Да вы, видать, со своим ангелом-хранителем дружбу водите. Я такое встречал – когда человек ничего ни сообразить, ни сделать не успевает, а будто за него кто делает и соображает. Я не знал, в какую щель лезть от страха, так что о вас некогда думать было.
– Так кто же? Я сам? – отчетливо вспомнив, как рубаху за лопатками собрала в жменю крепкая ладонь, остолбенел Славин.