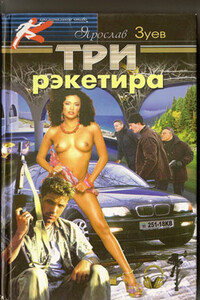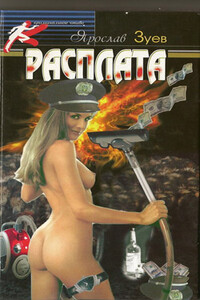– Менты! – зашипел Филимонов.
– Все, б-дь, тихо, ни звука!
Через мгновение Любчик заколотил в дверь.
* * *
Перешагнув через застывшего в неестественной позе Вардюка, Витряков направился к двери.
– Шрам, – обронил он на ходу, – тачку легавых – за дом.
– Он так ничего и не сказал… – с долей уважения пробормотал Дима Кашкет. Витряков резко остановился и смерил Забинтованного взглядом. – Я имею в виду, что мы ни хрена не узнали… – добавил Дима.
– А второй тебе на х…? – Леонид пнул ногой Любчика. Тот глухо застонал. – Давай, притащи пару ведер. Выкатишь на него, живее очухается.
«Я это вынесу», – решил Андрей, в первый раз очутившись на борту авиалайнера. Перелет из Хабаровска в Москву, совершенный с родителями в 78-м году, он решил сбросить со счетов. Тогда он и в школу-то не ходил. То давнишнее путешествие теперь вспоминалось, как сказка. Оно хранилось в памяти в виде почти не потускневших от времени картинок – выруливающего к терминалу белоснежного ТУ-134, накрахмаленной блузы стюардессы, крылатой эмблемы «Аэрофлота» и потрясающего заката, раскрасившего ковер из облаков теплой оранжевой пастелью. Облака казались Андрею уютными и безопасными, как пуховое бабушкино одеяло в Дубечках, а опасения звездануться с многокилометровой высоты не донимали.
«То ли дело сейчас, – подумал Андрей, наблюдая далеко внизу облака, напоминающие мокрый снег на поверхности темного пруда, – то ли дело сейчас!»
Пока он ехал в аэропорт, почти осязаемый страх перед тем, что его ожидает на полуострове, давил кадык скользкими ледяными пальцами. Андрей с легкостью мог представить себя летчиком-самураем, отправляющимся в последний полет. В голове звучали отрывки песни, которую он когда-то услышал:
Шесть пятнадцать, взревели моторы,
Заглушив грозный крик «Банзай»,
Впереди ожидает море,
А земля наших предков прощай.
Позади, остались пляжи,
Зелень пальм поглотила даль,
Лишь внизу океана чаша,
Только неба чужого сталь.
Так хлебнем же саке на дорогу,
А товарищи рявкнут «Банзай»,
Мы теперь не люди, а боги,
Нам уже уготован рай…»
И припев:
«А горючего только до цели,
а горючего только до рая,
Так Банзай, кодекс Бусидо,
Так Банзай, честь самурая…»
[29]«Товарищи твои неизвестно где, – отметил тошнотворный внутренний голос, – ты трезв, и потому вибрируешь, а на рай можешь не рассчитывать, не светит ни при каких раскладах».
Потом самолет взлетел, и совершенно новые ощущения прогнали страх, как ветер туман. Временно, по-крайней мере.
* * *
– Через десять минут наш самолет совершит посадку в Аэропорту города Симферополь, – бодро сообщила стюардесса.
«Ну, конечно, тебе-то что? Ты всю жизнь между небом и землей болтаешься. – Девушка повернулась спиной. Андрей сконцентрировался на разглядывании ее попки, на которой фирменная юбка сидела плотно, будто перчатка на руке. Попка была симпатичная, и, каким-то образом подарила Бандуре уверенность, что полет закончится благополучно. – А, все равно, скорей бы уж сели».
Как только стюардесса исчезла за дверью, Андрей, вздохнув, скользнул взглядом по салону и с удовлетворением убедился, что значительная часть пассажиров разделяет его тревогу. Стоило лайнеру пойти на снижение, пассажиры оживились. Вопреки неумолимой статистике, утверждающей, будто наибольшие опасности подстерегают воздушные суда как раз при взлетах и посадках, пассажиры, очевидно, считали себя почти на земле. Снова появившаяся в дверях стюардесса попросила пристегнуть ремни безопасности. Бандура безропотно подчинился. Зажегся плафон с надписью «не курить», зачем-то дублированный по-английски. Как будто в отечественных самолетах летают иностранцы. И, курят. Невидимый в кабине пилот подал штурвал от себя и самолет, покачнувшись, заскользил вниз, как санки с горы. Обитый ковриком пол ушел из-под ног Андрея, а желудок устремился вверх. Андрей крепче вцепился в подлокотники, подумав, что коридор между креслами стал похож на прогулочную палубу парохода, проваливающегося носом в пучину. Затем снижение прекратилось. По всей видимости, экипаж занял указанную авиадиспетчером высоту.
«Вот при таких выходах из пикирования возникают опасные перегрузки, и самолет очень даже легко может переломиться надвое. Как подмокшая сигарета»,