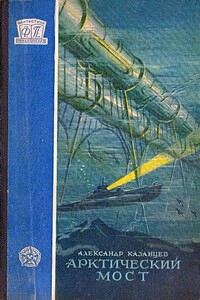— Я обладаю двумя реликвиями, случайно доставшимися мне. Одну я предназначаю за его музыкальные успехи старшему сыну Гансу, а другую — младшему, в расчете, что Иоганн вырастет, станет математиком и оценит ее. Я сейчас их принесу.
И он скрылся.
— Если бы вы знали, как Герберт ими дорожит, — вздохнула Марианна. — Но, боюсь, что мальчикам нашим они не так уж и нужны! — и она виновато улыбнулась.
Вернулся Герберт, держа в руках небрежно исписанный старый нотный лист и еще обрывок пожелтевшей бумаги с какими-то знаками и линиями.
— Подлинники! — с гордостью коллекционера объявил он. — Вот это лист партитуры, собственноручно написанный самим Бетховеном. А это — совсем другое… Это — загадка! Она досталась мне за деньги от потомков…
— Эйлера?
— Нет! Его слуги!.. Никто пока не определил что это такое! У меня надежда на Иоганна, станет взрослым математиком и разгадает эту тайну.
— И совсем я не для этого вырасту, — набычился курчавый крепыш. — Терпеть не могу историю… Одни упреки в школе… А за что? За королей, интриги, войны! И тут не все ли равно кто это нацарапал. Эйлер или его слуга? Наверняка устарело.
— Ах, вот как! — вспылил Герберт. — В таком случае я подарю эту реликвию нашему гостю. Он мастер создавать и решать шахматные этюды. Так пусть разгадает и эту задачу…
Так я стал обладателем загадочной реликвии, которой суждено было сыграть роль в судьбах близких мне людей.
* * *
Нет! Рассказ пойдет не о призраках былого! Просто у меня встретились внучка подруги моей жены Соня, студентка физико-математического факультета и великий мастер, рукодел и выдумщик Костя из одного НИИ.
Соня, войдя первой, сразу заметила пожелтевший листок бумаги на моем столе и порывисто бросилась к нему:
— Это же формулы! — обрадовалась она. — И такие старые. Что это?
— Формулы самого Эйлера, записанные его слугой.
Тут Соня воспылала к старому обрывку бумаги таким всесокрушающим интересом, что ее рыжеватые курчавые волосы, казалось, сейчас вспыхнут огнем.
— О чем, о чем они? — допытывалась она.
— Надо быть знатоком творчества гения, чтобы хотя бы отнести их к какой-либо отрасли знания, где он оставил свой ценнейший вклад.
— А я догадалась! — задорно воскликнула Соня. — Это из моей любимой теории чисел! Эйлер, наряду с другими исследователями, доказывал правильность Великой теоремы Ферма для третьей степени.
— Кажется в этом сейчас сомневаются? — напомнил я.
— Все равно это ужасно интересно! Всмотритесь в формулы. Многие величины возведены в куб! Поверьте, это не случайность!
И тут вошел Костя, ладно скроенный, атлетического сложения, с зачесанными назад густыми волосами и прищуренным взглядом продолговатых глаз на скуластом лице.
Мы с ним занимались всяким изобретательством вроде фотоскульптуры и бесшумных дверей.
Костя принес макет такого устройства и рассчитывал сыграть очередную партию в шахматы.
— Это Костя Улыбин, — представил я его Соне.
Не знаю, формулы ли или девушка, их рассматривающая, привлекли внимание Кости, но он с напускной небрежностью спросил, показывая на реликвию:
— Что это за макулатура?
Соня с укором посмотрела на него и выразительно сказала:
— Это же формулы, написанные слугой Эйлера под его диктовку.
— И вы сразу догадались к чему они относятся? — покачал головой Костя.
— Мне показалось, что это из теории чисел.
— Всякая теория хороша, если она полезна практике. А в отношении теории чисел… не знаю, можно ли это утверждать?
— А Великая теорема Ферма, над которой триста пятьдесят лет трудились математики всего мира?
— А не зря ли трудились? — заметил Костя.
— Ах вот вы какой! А можно вам напомнить, что сам Пьер Ферма говорил?
И Соня с чувством процитировала:
— “Наука о целых числах является прекрасной и наиболее изящной”. Вот так!
— Я бы отнес это скорее к прекрасной даме, чем к науке, вполне бесполезной. Например, к вам, милая девушка!
— В восторге от такого комплимента, но в отчаянии от подобного незнания, скажем, теории групп, рожденной этой “бесполезной” наукой, без чего современные физики не поставили бы ни одного опыта на синхрофазотроне.
— Теория групп и синхрофазотрон — это вещь! Лежачего не бьют, — поднял руки Костя.