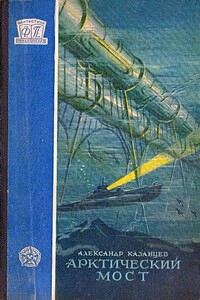Встречающие повели гостей по главной лестнице в Большой зал, но после первого марша повернули не на второй марш, а на лестницу в зал правления, где во всю его длину стоял покрытый сукном стол, за которым уже сидели именитые писатели, жаждущие встречи с великим ученым, открывшим дорогу к овладению атомом. Выдающиеся физики мира считали за честь пройти у Нильcа Бора Копенгагенскую школу ученых.
Невысокий опрятный человек с усталым лицом, высоким лбом и умными глазами сел за стол рядом с супругой.
Он рассказал, как в физике прошлого века назрел кризис переизбытка знаний. Все явления Природы были объяснены теориями тяготения Ньютона и электромагнитного поля Максвелла. Но появилось избыточное знание: опыт Майкельсона показал, что скорость света остается неизменной и не зависит от скорости движения наблюдателя. Прежние знания не могли этого объяснить. Понадобилась казавшаяся безумной, теория относительности, предложенная молодым швейцарским патентоведом двадцатипятилетним Альбертом Эйнштейном. Перевертывались вверх дном прежние представления. Поначалу, какие-нибудь пять-шесть ученых во главе с Максом Планком понимали и принимали Эйнштейна. Но физика двадцатого века встала под его знамя. Двадцатый век стал делением неделимого. Атом распался на шесть открытых элементарных частиц. Это не укладывалось в существующие представления. Но новейшая аппаратура позволила найти до двухсот элементарных частиц, внесших в физику полную сумятицу. Снова назрел кризис, когда нужны новые “безумные” идеи, и наука ждет их появления.
Нильс Бор закончил вступление, улыбнулся и предложил задавать ему вопросы.
— Считает ли профессор, что физика после теории относительности Эйнштейна и создания атомной бомбы зашла в тупик? — спросил поэт Кирсанов, современник Маяковского.
Нильс Бор, пряча улыбку, сказал:
— Каждый из нас, ученых, вправе сказать в конце пути: “Вот теперь я знаю, что ничего не знаю”. Геометрически это можно представить в виде окружности, радиус которой представляет наше знание, а длина дуги — наше незнание. Чем больше мы знаем, тем в “пи” раз больше и значительнее то, что предстоит узнать.
— Считаете ли вы, профессор Бор, что если прежде мощь страны определялась числом дредноутов, то ныне судить об этом надо по числу синхрофазотронов? — спросил Захарченко, главный редактор журнала “Техника — молодежи”.
— Разумный вопрос, но требует уточнения. Дредноуты характеризуют способность страны к уничтожению людей, синхрофазотроны — уровень развития науки. Война и наука в сложных отношениях. Война кормит и подстегивает науку, чтобы завладеть ее достижениями. Но этот процесс не может быть беспредельным. Превышение определенного уровня грозит существованию самой науки. И есть доля правды в остроте, что после войны с применением нынешних достижений науки в областях физики, биологии и даже психотропии, следующая уже будет с дубинками.
— Но вы, профессор, сугубо гуманный человек и предложенная вами планетарная модель атома никому не угрожает. В чем вы видите дальнейшее развитие ваших идей? — спросил Георгий Тушкан, прозаик-приключенец, написавший как он разыскивал в Германии фау-ракеты Вернера фон Брауна.
— Ваш великий политик и философ Ленин говорил о неисчерпаемости электрона. Я сделал лишь первый шаг в этом направлении. Физике нужны безумные идеи, которые перевертывают застывшее мировоззрение, когда считается, что все понято, все ясно, как было с вторжением в физику теории относительности Эйнштейна. Пришлось пересматривать основы наших представлений. Оказывается один плюс один не равно двум! Нашим последователям предстоит заглянуть внутрь “Ленинского электрона”, чтобы преодолеть кризисный переизбыток знаний, стать “безумными” и по-новому объяснить все.
— Блестящая формула — “Безумие знаний! — воскликнул Захарченко.
— Но это не значит что гениальность — это сумасшествие? — задал вопрос Леонид Соболев.
— Я не думаю, что психиатрические лечебницы будущего будут нуждаться в синхрофазотронах, — шутливо ответил Нильс Бор.
— Я хотел бы вернуться к вашей мысли, профессор, о самоуничтожении науки при переходе ею как бы критической грани. Что если развить это еще шире? — вступил в разговор Званцев.