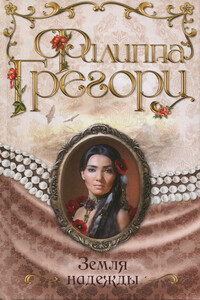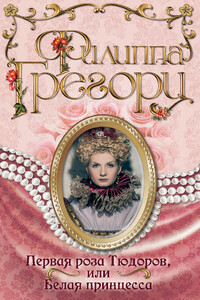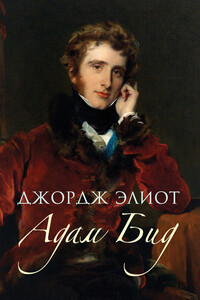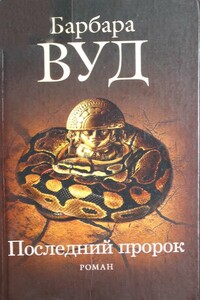– Мельница платит аренду? – спросила я.
Удивление на лице Джеймса Фортескью оттого, что я думаю о подобных вещах, превратилось в улыбку.
– Будет, Сара, – увещевательным тоном произнес он. – Не забивай себе голову этими мелочами. Мельница не платит аренду с тех пор, как учредили корпорацию. Мельница, разумеется, дело отдельное, она работает так же, как кузница и возчик. Они берут особую плату или вовсе не берут денег с жителей деревни, а прибыль получают за счет тех, кто приходит извне. Когда они работают на деревню, то им выделяют долю в прибыли, а так они независимы. Когда деревня только начинала становиться на ноги, мы с кузеном Уилла, Тедом Тайяком, решили, что мельница не будет платить аренду, чтобы для жителей деревни она работала бесплатно. С тех пор так и повелось.
– Понятно, – тихо сказала я, потом сделала вид, что подавила зевок. – Ох, как я устала! Пойду ложиться.
– Сладких снов, – сказал он нежно. – Если тебя заинтересуют дела, завтра утром я преподам тебе первый урок: как читать книги поместья. Но для этого тебе надо отдохнуть. Доброй ночи, Сара.
Я улыбнулась ему, я выучилась этой улыбке у нее, давно, она так улыбалась, когда хотела быть очаровательной: прелестная детская сонная улыбка.
А потом медленно пошла к лестнице.
Для одного вечера я узнала достаточно. Джеймс Фортескью мог быть ловким деловым человеком в Бристоле и Лондоне – хотя я искренне в этом сомневалась, – но здесь, в деревне, его могли дурачить каждый день в течение шестнадцати лет. Он полностью доверял одному человеку, который был и счетоводом, и управляющим, и старостой. Уилл Тайяк решал, сколько тратить, а сколько объявлять прибылью. Уилл Тайяк решал, какая доля прибыли полагается каждому из общей казны. Уилл Тайяк решал, какова будет моя доля. И Уилл Тайяк родился и вырос в деревне, он не хотел, чтобы Лейси делали состояние на деревне или даже снова заявляли, что она принадлежит им.
Пальцы мои коснулись резной балясины у подножия лестницы, и я услышала в голове холодный голос, произнесший: «Это мое».
Оно и было моим. Эта балясина, этот затененный, сладко пахнущий холл, земля, простиравшаяся снаружи до склонов Гряды, и сама Гряда, уходившая к горизонту. Это было моим, и я не для того прошла весь путь домой, чтобы учиться быть миленькой Мисс из гостиной, этой тошнотворно розовой комнаты. Я пришла, чтобы заявить о своих правах и владеть своей землей, выручить свое наследство, чего бы мне это ни стоило, чего бы это ни стоило остальным.
Я вовсе не была той робкой нищенкой, которой они меня считали. Я была падчерицей мошенника и приемной дочерью цыганки. Мы всегда были ворами и бродягами, всю жизнь. Собственного коня я выиграла в пари, деньги я зарабатывала только верховыми трюками и шулерством. Я не одна из этих мягких сассекских уроженцев. На их нищих я не похожа. Я – неблагодарная деревенская девчонка, я – ребенок, брошенный матерью и выращенный цыганкой, проданный отчимом, умеющий обмануть и словчить по-всякому, как только могут на дороге. Я научусь читать расчетные книги, чтобы знать, сколько стоила эта хитрая выдумка с долей в прибылях и кто те мошенники, что меня обманывают. Я займу место в Холле как настоящий сквайр, а не как праздная тряпка, которой они хотели меня видеть. Я вернулась домой не для того, чтобы сидеть на диване и пить чай. Я пережила одиночество, отчаяние и разбитое сердце, чтобы получить нечто большее.
Тихо поднявшись к себе, я немного посидела на диване под окном своей спальни, глядя на залитый солнцем сад, на бледные облака, собиравшиеся справа и слегка розовевшие оттого, что к ним опускалось солнце.
«Это мое, – сказала я себе, и мне было холодно, словно на дворе стояла середина зимы. – Мое».