Брунетти вывернулся, угрожающе размахивая огромной связкой ключей. Репортер, не заметив ее, зато видя выражение лица Брунетти, попятился, выставив вперед руку, будто стараясь защититься.
— Простите, комиссар, — сказал он, и улыбка его была столь же фальшивой, как и слова.
Какое-то животное начало в остальных журналистах откликнулось на явный страх, прозвучавший в его голосе. Все молчали. Брунетти оглядел их лица. Никаких вспышек фотоаппаратов, никаких видеокамер.
Он снова повернулся к двери и вставил ключ в замок. Отперев его, он вошел в вестибюль, закрыл дверь и прислонился к ней. Он почувствовал, что его лицо, грудь, спина покрылись потом внезапной ярости, сердце бухало о ребра. Он расстегнул и распахнул пальто, чтобы прохладный воздух вестибюля остудил его. Оттолкнувшись плечами от двери, начал подниматься по лестнице.
Вероятно, Паола слышала, как он вошел, потому что, когда он добрался до последней лестничной площадки, дверь уже была открыта. Она придержала ее, взяла из его рук пальто и повесила. Он нагнулся и поцеловал жену в щеку, с удовольствием вдыхая ее запах.
— Ну, как? — спросила она.
— Приговорен к наказанию под названием «административный отпуск». Полагаю, изобретено специально ради такого случая.
— И что это значит? — поинтересовалась она, следуя рядом с ним в гостиную.
Он плюхнулся на диван, вытянув перед собой ноги, и объяснил:
— Это значит, что мне велено сидеть дома и предаваться чтению, до тех пор пока вы с Митри не придете к какому-либо соглашению.
— Соглашению? — удивилась она, присаживаясь на краешек дивана рядом с ним.
— По всей видимости, Патта считает, что тебе следует заплатить Митри за витрину и извиниться. — Он представил себе Митри и после короткого размышления поправился: — Или просто заплатить.
— За одну или две? — поинтересовалась она.
— А есть разница?
Она опустила глаза, расправила ногой завернувшийся краешек ковра перед диваном.
— Вообще-то нет. Я не могу заплатить ему ни лиры.
— Не можешь или не хочешь?
— Не могу.
— Ну, в таком случае у меня, кажется, есть шанс наконец-то прочесть «Историю упадка и разрушения Римской империи» Гиббона.>[14]
— В каком смысле?
— В прямом. Я останусь дома до тех пор, пока дело каким-либо образом не решится — по договоренности или через суд.
— Если мне назначат штраф, я его заплачу, — сказала она, и в ее голосе было столько гражданского самосознания, что Брунетти ухмыльнулся.
Продолжая улыбаться, он произнес:
— Кажется, Вольтер сказал: «Я могу быть не согласен с вашим мнением, но готов отдать жизнь за ваше право высказывать его».
— У Вольтера много подобных изречений. Звучит неплохо. У него была привычка говорить вещи, которые очень неплохо звучат.
— Что-то сегодня ты как-то особенно скептически настроена.
Она пожала плечами:
— Благородные чувства всегда кажутся мне подозрительными.
— Особенно, если о них говорят мужчины?
Она наклонилась к нему, накрыла его руку своей ладонью:
— Ты это сказал, не я.
— И тем не менее это так.
Она снова пожала плечами:
— Ты действительно намерен читать Гиббона?
— Давно хотел. Но, вероятно, в переводе. У него слишком изысканный стиль для меня.
— В том-то вся прелесть.
— Напыщенной риторики мне хватает и в газетах, в историческом исследовании она мне не нужна.
— Газетчикам все это должно очень понравиться, как ты думаешь? — спросила она.
— Андреотти>[15] вот уже лет сто никто не пытается арестовать — надо же им о чем-то писать?
— Ну да. — Она встала. — Тебе чего-нибудь принести?
Брунетти, пообедавший весьма скромно и невкусно, попросил:
— Сэндвич и стакан «Дольчетто». — И стал расшнуровывать ботинки. Паола направилась к двери, но он окликнул ее: — И первый том Гиббона.
Минут через десять Паола все принесла, и он позволил себе расслабиться: вытянулся на диване, поставил стакан на столик рядом, а тарелку — себе на грудь, раскрыл книгу и начал читать. Бутерброд был с беконом и помидорами, между которыми лежал тонкий слой овечьего сыра, пекорино. Паола вышла и, вернувшись, положила ему на грудь льняную салфетку — как раз вовремя: из бутерброда выпал кусочек сочного помидора. Брунетти положил надкушенный сэндвич на тарелку, взял стакан и сделал большой глоток, пробегая глазами вводную главу — бестактный хвалебный гимн величию Римской империи.



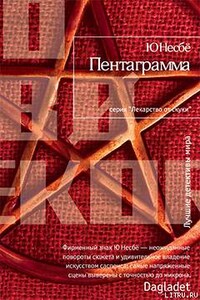

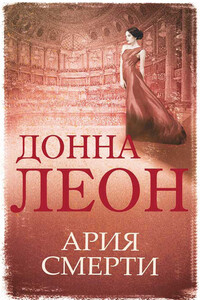

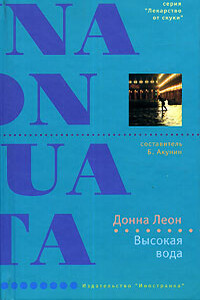
![Расследования Берковича 11 [сборник]](/uploads/books/images/b4/b4d1bcadf8f8da8bb22e7a1f6b21939ba9e28efb.jpg)
![Расследования Берковича 9 [сборник]](/uploads/books/images/66/669e677c3840e37f130f6b5c3f11e9adef03d3f3.jpg)

