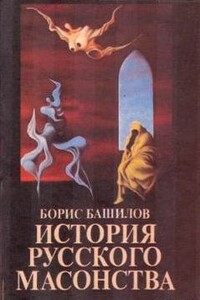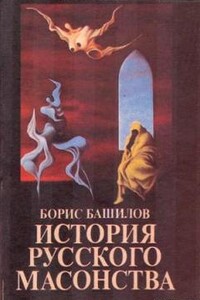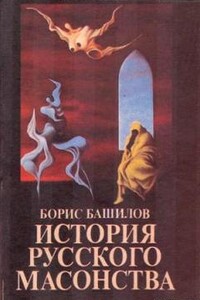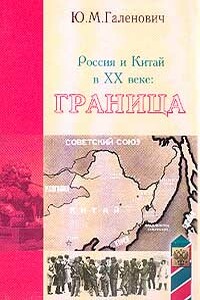«Обратимся прежде всего к тому, что принято называть «русским вольтерьянством». Уже одно то, что именем Вольтера сами русские люди обозначали целое течение мысли и настроений, является очень характерным.
Действительно, имя Вольтера было знаменем, под которым объединялись все те, кто с беспощадной критикой и часто даже с презрением отвергали «старину» — бытовую, идейную, религиозную, кто высмеивал все, что покрывалось традицией, кто стоял за самые смелые нововведения и преобразования. На почве этого огульного отвержения прошлого, развивается постепенно вкус к утопиям» (Т. I, стр. 85).
Русское вольтерьянство, со одной стороны стремилось к крайнему политическому радикализму, а с другой, по свидетельству Фонвизина «идейные» занятия в кружках вольтерьянцев заключались главным образом в «богохульстве и кощунстве». Верную характеристику русскому вольтерьянству дает Ключевский: «Потеряв своего Бога, — замечает он, — заурядный русский вольтерьянец не просто уходил из ЕГО храма, как человек, ставший в нем лишним, но подобно взбунтовавшемуся дворовому, норовил перед уходом набуянить, все перебить, исковеркать, перепачкать».
В этой характеристике вольтерьянства не трудно увидеть первые ростки того нигилизма, который, прочно, со времен вольтерьянства вошел в русский духовный быт. «…новые идеи, — констатирует Ключевский, — нравились, как скандал, подобно рисункам соблазнительного романа.
Философский смех освобождал нашего вольтерьянца от законов божеских и человеческих, эмансипировал его дух и плоть, делал его недоступным ни для каких страхов, кроме полицейского» (Ключевский, Очерки и речи. т. II, стр. 256).
«Этот отрыв от всего родного кажется сразу мало понятным и как-то дурно характеризует русских людей XVIII века (явление такого отрыва встречается еще задолго до середины XIX века.) Это, конечно, верно, но факт этот по себе более сложен чем кажется. Весь этот нигилистический склад ума слагался в связи с утерей былой духовной почвы, отсутствием, в новых культурных условиях, дорогой для души родной среды, от которой душа могла бы питаться. С Церковью, которая еще недавно целиком заполняла душу, уже не было никакой связи, — жизнь резко «секуляризировалась», отделяясь от Церкви, — и тут образовалась целая пропасть. И если одни русские люди, по-прежнему пламенно жаждавшие «исповедовать» какую— либо новую веру, уходили целиком в жизнь Запада, то другие уходили в дешевый скептицизм, в нигилистическое вольнодумство». «Русское вольтерьянство в своем нигилистическом аспекте оставило все же надолго следы в русском обществе, но оно принадлежит больше русскому быту, чем русской культуре. Гораздо существеннее то крыло вольтерьянства, которое было серьезно и которое положило начало русскому радикализму как политическому, так и идейному. Тут же, конечно, значение Вольтера не было исключительным, русские люди увлекались и Руссо, и Дидро, энциклопедистами, позднейшими материалистами».
«Из рассказа одного из виднейших масонов XVIII века И. В. Лопухина, мы знаем, что он «охотно читывал Вольтеровы насмешки над религией, опровержения Руссо и подобные сочинения». «Русский радикализм, не знающий никаких авторитетов, склонный к крайностям и острой постановке проблем, начинается именно в эту эпоху. Но как раз в силу этого экстремизма, в русских умах начинает расцветать склонность к: мечтательности, то есть к утопиям».
«Так, петровский дворянин, артиллерист и навигатор, превратился в елизаветинского петиметра, а этот петиметр при Екатерине переродился в homme de Lettres'a, из которого к концу века выработался дворянин-философ, масон и вольтерьянец. Этот дворянин-философ и был типическим представителем того общественного слоя, которому предстояло вести русское общество по пути прогресса. Поэтому необходимо обозначить его главные черты. Его общественное положение покоилось на политической несправедливости и венчалось житейским бездельем. С рук сельского дьячка учителя он переходил на руки француза-гувернера, довершал образование в итальянском театре или французском ресторане, применял приобретенные познания в петербургской гостиной и доканчивал дни свои в московском или деревенском кабинете с книжкой Вольтера в руках. С этой книжкой Вольтера где-нибудь на Поварской или в Тульской деревне он представлял странное явление. Все усвоенные им манеры, привычки, вкусы, симпатии, самый язык — все было чужое, привозное, а дома у него не было никаких живых органических связей с окружающим, никакого серьезного житейского дела.