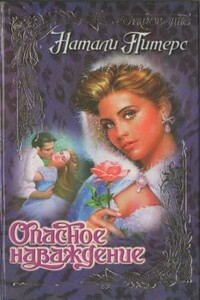– Я не могу! И не буду! – бушевал Рафаэлло. – Что с вами случилось? Чего вы испугались? Погромов? Сейчас не средние века. Чем они могут еще досадить нам? Вы не добьетесь уважения, если будете унижаться. Когда вы ведете себя как слуги, с вами и обращаются как со слугами. Если вы станете извиняться за то, кто вы есть, всегда найдется, за что осуждать вас. Если уступите и подчинитесь без борьбы, то на вас взвалят еще большее бремя, и вы не сможете даже пошевелиться под гнетом их законов. Вы не устали жить как животные, загнанные в вонючий скотный двор? Разве вы не хотите, чтобы ваши сыновья жили лучше, чем вы? Я этого хочу. Хочу добиться свободы и для моих сыновей, и для себя. Немедленно. Сегодня…
– Рафаэлло, прошу тебя, – умоляющим тоном обратилась к нему тетя Ребекка. Рядом с ней стояла Лиа, широко раскрытыми глазами наблюдая за происходящим. Она не могла разобраться, в чем дело, но понимала, что речь идет о чем-то серьезном.
– Прости, тетя Ребекка, – решительно сказал Раф. – Теперь я уже не в силах остановиться. И не отступлю.
– Первый ваш долг – перед Богом. Второй – перед общиной, – напомнил ему главный раввин.
– Нет! Мой первый долг – перед моей верой, перед свободой. Переменами. Равенством всех перед законом.
– Думаю, Малачи, вам следовало уберечь его от этих бед в Америке, – проворчал банкир. – Ну к чему вся эта болтовня о демократии?
– Но что я мог сделать? – запричитал Малачи. – Я же не мог каждую минуту следить за ним!
– Не вините Малачи, – сердито сказал Раф. – Всю дорогу до Америки и обратно мы обсуждали с ним политические проблемы, законы, и я по сей день уверен, что он ошибается. Вы все ошибаетесь.
– Вы, Раф, понимаете, чем это может кончиться? – спросил молодой раввин. – Если вы не подчинитесь нашим требованиям, мы будем вынуждены отречься от вас.
Раф кивнул головой.
– Я понимаю. Но это не остановит меня.
Тетя Ребекка громко всхлипывала, прикрыв лицо фартуком.
– Мы даем вам ночь и еще один день на раздумье, – сказал старый раввин.
– Мне нечего раздумывать. Я не изменюсь, не перестану действовать во имя того, что, по-моему, справедливо. Делайте что хотите. – Раф посмотрел вокруг себя на бледные, бородатые лица. – С этого момента я не с вами. Я больше не еврей.
В комнате воцарилось молчание, и раздавались лишь всхлипы тети Ребекки. Лиа прижалась к старушке. Раввины и старшины молча покинули дом. Последним ушел Малачи, бросив на Рафа умоляющий взгляд. Раф покачал головой.
Когда они ушли, Раф подошел к женщинам и, положив руку на плечо своей тети, сказал:
– Я должен был так поступить, тетя Ребекка. Прости.
– Как я рада, что твоего дедушки нет в живых! – воскликнула она. – Он никогда бы не понял этого. Никогда! Я сама не могу понять, что происходит. Почему ты всегда думаешь только о себе? Никогда не предвидишь последствий своих поступков? Мне стыдно за тебя!
– Ты можешь уйти и жить в другом доме, – ласково сказал Раф. – Я это пойму.
– Ты хотел бы этого? Да? Тогда никто бы не вмешивался в твои дела. Нет, никуда я не уйду. Останусь здесь и буду присматривать за тобой.
– Спасибо, – тихо сказал он.
Покачивая головой, тетя Ребекка вышла из комнаты. Раф устало опустился в кресло.
– Налей мне немного вина, Лиа.
– Я не понимаю, синьор Раф. Что произошло? Что это все значит? Почему вы теперь не еврей?
– Потому что меня отлучили от веры. Или отлучат. Завтра… Соберутся в синагоге, зажгут свечи, развернут свиток торы. Они вытянут жребий, что должен будет прочесть раввин из налагаемых запретов. И это будет затем повторено по всему гетто. К завтрашнему вечеру все, даже дети, узнают, что случилось.
Лиа наполнила бокал вином и поставила его на стол напротив Рафа.
Он вперил взгляд в пространство.
– Так много законов, – пробормотал он. – Закон Божий. Закон природы. Гражданский закон. Закон гетто. Вы не можете ни двигаться, ни думать, ни совершать какие-либо поступки.
– Но что это значит? – настойчиво добивалась ответа Лиа.
– Я больше не существую. Они могут прогнать меня из гетто, тем самым сняв с себя всякую ответственность за меня. Меня не будут засчитывать в кворум, необходимый для совершения утренней молитвы. Я не буду участвовать ни в какой деятельности. Никому не разрешат разговаривать со мной или заключать сделки. Если я женюсь и моя жена родит, то ребенка не будут считать евреем. Если в моей семье кто-нибудь умрет, его нельзя будет захоронить в освященной земле.