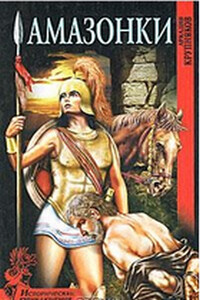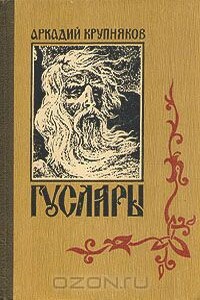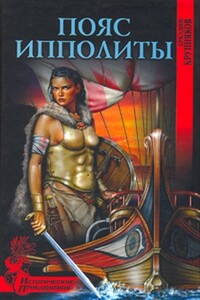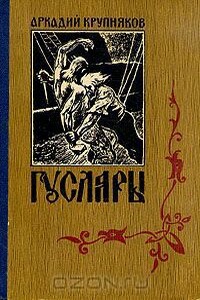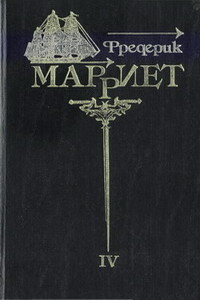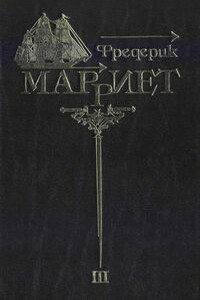— Аказ —он молодец,— соглашался Санька,— только язычник. А сердце девичье, знаешь,— воск. Вот я о чем думаю.
— Я, внучек мой, деда твоего полюбила, он разбойником был. Сколько горя от той любви приняла, а все одно была счастлива.
Санька с бабушкой соглашался, но на душе все равно было тревожно.
Любил ли Аказ Ирину? Он точно не мог себе на это ответить. Если бы полюбил, то Эрви должна уйти из сердца. Но она не уходила. Хоть и мало было надежды на то, что она вернется к нему, но вера эта не пропадала. Иногда он задавал себе вопрос: а что если Эрви нет в живых, если она добровольно осталась в Казани и нет ей возврата назад? Стоит ли ждать ее, тратить в тоске молодые годы. А если она верна ему? Ждет с ним встречи?
Ирина была совсем не похожа на Эрви, и все же его к ней тянуло. В домик Сани Аказ ходил, как на праздник. Однако надежды большой на ответную любовь не было. Санька на разговоры сестры и друга смотрел неласково, Ирина хоть и была с Аказом нежна и душевна, но называла его братом и спасителем, а это говорило о том, что к нему девушка относится по-хорошему от благодарности и гостеприимства, может быть, скуки ради, но не от любви. От таких дум по ночам у Аказа ныло сердце, и он часто задумывался над своей судьбой. А судьба-злодейка не сулила Аказу ничего хорошего. Если даже и полюбит его девушка, что с того? Остаться служить Москве постоянно и жениться на ней было нельзя: беглая она монашка, от пострига убежала. Везти в Нуженал тоже нельзя — отец и сородичи не примут. Эрви может вернуться. Да и пойдет ли Ирина в глухие леса на Волгу. От этих дум раскалывалась голова, болела грудь.
Потом настало Великое воскресенье. Вся Москва праздновала Христов день.
Гуляли все.
Ходили из дома в дом—христосовались. По улицам, заплетаясь, бродили хмельные ратники, на площадях открыто целовались совсем незнакомые люди—на пасху это можно, не грех. Даже монахи и те осмелели: вино пьют, мясо едят прямо на глазах у православных, а иные, задрав рясы, бегают за молодайками. В эту пору Аказ решил рискнуть и пробраться к Ирине днем, потому что она просила навестить ее в светлый праздник.
К дому Ирины он прошел незаметно, здесь его встретили, как всегда, приветливо и радостно.
— Ты хоть и не православный,— сказала Аказу бабушка Ольга,—одначе и для тебя сей день праздник. У татар и тех в эту пору своему богу молятся.
— И у нас тоже сегодня праздник,— ответил Аказ,— наши люди всем илемом сегодня утром, наверно, ходили под священное дерево и просили у бога большого урожая, здоровья семье и скотине.
— Ну вот, видишь, Саня, а ты говорил... Садись, Аказушко, с нами, попразднуй.
Чинно сели за стол, разрезали кулич. Сначала всех перецеловала бабушка Ольга. Она не спеша подходила сначала к Сане, потом к Ирине и Аказу и трижды целовала в губы. Потом Саня христосовался с Ириной и Аказом. Подошла очередь Ирине целовать Аказа. Все глядели на нее, думали, девушка смутится. А она спокойненько взяла из миски крашеное яйцо, стукнула о край стола, сказала Аказу: «Христос воокресе», а поцеловать не поцеловала. У Аказа сразу на сердце тень. Не показывая огорчения, он ответил Ирине и принялся за кулич. Потом разговлялись мясом, скоро на столе появилось пиво и медовщина.
Под вечер, когда утомленная бабушка отправилась на печку, а Санька, напившись пива, уснул прямо за столом, Аказ и Ирина перешли в горенку. То ли от медка, то ли от волнения глаза у Ирины в сумерках горели, как угольки. Она долго смотрела на Аказа, и тот, чувствуя ее зов, решился первым сделать шаг.
— Пасха сегодня, братец!—произнесла Ирина.
Аказ шагнул ей навстречу, рывком прижал к груди, почувствовал пылающие Иринины губы. И в этот момент в сенцах раздался громкий стук. Аказ сразу понял, что большая беда пришла, и бросился в комнату, чтобы предупредить Саньку, но было уже поздно. Загремела сорванная с петель сенная дверь, и два дюжих стражника с оголенными саблями вломились в избу. Санька стоял за столом протрезвевший. Стражник подбежал к нему, выволок его из-за стола, крикнул: